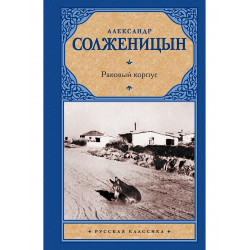
АЛЕКСАНДР СОЛЖЕНИЦЫН
РАКОВЫЙ КОРПУС
Часть первая
1
Раковый корпус носил и номер тринадцать. Павел Николаевич Русанов никогда не был и не мог быть суеверен, но что-то опустилось в нём, когда в направлении ему написали: «тринадцатый корпус». Вот уж ума не хватило назвать тринадцатым какой-нибудь протезный или кишечный.
Однако во всей республике сейчас не могли ему помочь нигде, кроме этой клиники.
– Но ведь у меня – не рак, доктор? У меня ведь – не рак? – с надеждой спрашивал Павел Николаевич, слегка потрагивая на правой стороне шеи свою злую опухоль, растущую почти по дням, а снаружи всё так же обтянутую безобидной белой кожей.
– Да нет же, нет, конечно, – в десятый раз успокоила его доктор Донцова, размашистым почерком исписывая страницы в истории болезни. Когда она писала, она надевала очки – скруглённые четырёхугольные, как только прекращала писать – снимала их. Она была уже немолода, и вид у неё был бледный, очень усталый.
Это было ещё на амбулаторном приёме, несколько дней назад. Назначенные в раковый даже на амбулаторный приём, больные уже не спали ночь. А Павлу Николаевичу Донцова определила лечь, и как можно быстрей.
Не сама только болезнь, непредусмотренная, неподготовленная, налетевшая как шквал за две недели на безпечного счастливого человека, – но не меньше болезни угнетало теперь Павла Николаевича то, что приходилось ложиться в эту клинику на общих основаниях, как он лечился уже не помнил когда. Стали звонить – Евгению Семёновичу, и Шендяпину, и Ульмасбаеву, а те в свою очередь звонили, выясняли возможности, и нет ли в этой клинике спецпалаты, или нельзя хоть временно организовать маленькую комнату как спецпалату. Но по здешней тесноте не вышло ничего.
И единственное, о чём удалось договориться через главного врача, – что можно будет миновать приёмный покой, общую баню и переодевалку.
И на их голубеньком «москвичике» Юра подвёз отца и мать к самым ступенькам Тринадцатого корпуса.
Несмотря на морозец, две женщины в застиранных бумазейных халатах стояли на открытом каменном крыльце – ёжились, а стояли.
Начиная с этих неопрятных халатов всё было здесь для Павла Николаевича неприятно: слишком истёртый ногами цементный пол крыльца; тусклые ручки двери, захватанные руками больных; вестибюль ожидающих с облезлой краской пола, высокой оливковой панелью стен (оливковый цвет так и казался грязным) и большими рейчатыми скамьями, на которых не помещались и сидели на полу приехавшие издалека больные – узбеки в стёганых ватных халатах, старые узбечки в белых платках, а молодые – в лиловых, красно-зелёных, и все в сапогах и в галошах. Один русский парень лежал, занимая целую скамейку, в расстёгнутом, до полу свешенном пальто, сам истощавший, а с животом опухшим, и непрерывно кричал от боли. И эти его вопли оглушили Павла Николаевича и так задели, будто парень кричал не о себе, а о нём.
Павел Николаевич побледнел до губ, остановился и прошептал:
– Капа! Я здесь умру. Не надо. Вернёмся.
Капитолина Матвеевна взяла его за руку твёрдо и сжала:
– Пашенька! Куда же мы вернёмся?.. И что дальше?
– Ну, может быть, с Москвой ещё как-нибудь устроится…
Капитолина Матвеевна обратилась к мужу всей своей широкой головой, ещё уширенной пышными медными стрижеными кудрями:
– Пашенька! Москва – это, может быть, ещё две недели, может быть, не удастся. Как можно ждать? Ведь каждое утро она больше!
Жена крепко сжимала его у кисти, передавая бодрость. В делах гражданских и служебных Павел Николаевич был неуклонен и сам, – тем приятней и спокойней было ему в делах семейных всегда полагаться на жену: всё важное она решала быстро и верно.
А парень на скамейке раздирался-кричал!
– Может, врачи домой согласятся… Заплатим… – неуверенно отпирался Павел Николаевич.
– Пасик! – внушала жена, страдая вместе с мужем, – ты знаешь, я сама первая всегда за это: позвать человека и заплатить. Но мы же выяснили: эти врачи не ходят, денег не берут. И у них аппаратура. Нельзя…
Павел Николаевич и сам понимал, что нельзя. Это он говорил только на всякий случай.
По уговору с главврачом онкологического диспансера их должна была ожидать старшая сестра в два часа дня вот здесь, у низа лестницы, по которой сейчас осторожно спускался больной на костылях. Но, конечно, старшей сестры на месте не было, и каморка её под лестницей была на замочке.
– Ни с кем нельзя договориться! – вспыхнула Капитолина Матвеевна. – За что им только зарплату платят!
Как была, объятая по плечам двумя чернобурками, Капитолина Матвеевна пошла по коридору, где написано было: «В верхней одежде вход воспрещён».
Павел Николаевич остался стоять в вестибюле. Боязливо, лёгким наклоном головы направо, он ощупывал свою опухоль между ключицей и челюстью. Такое было впечатление, что за полчаса – с тех пор как он дома в последний раз посмотрел на неё в зеркало, окутывая кашне, – за эти полчаса она будто ещё выросла. Павел Николаевич ощущал слабость и хотел бы сесть. Но скамьи казались грязными, и ещё надо было просить подвинуться какую-то бабу в платке с сальным мешком на полу между ног. Даже издали как бы не достигал до Павла Николаевича смрадный запах от этого мешка.
И когда только научится наше население ездить с чистыми аккуратными чемоданами! (Впрочем, теперь, при опухоли, это уже было всё равно.)
Страдая от криков того парня и от всего, что видели глаза, и от всего, что входило через нос, Русанов стоял, чуть прислонясь к выступу стены. Снаружи вошёл какой-то мужик, перед собой неся поллитровую банку с наклейкой, почти полную жёлтой жидкостью. Банку он нёс не пряча, а гордо приподняв, как кружку с пивом, выстоянную в очереди. Перед самым Павлом Николаевичем, чуть не протягивая ему эту банку, мужик остановился, хотел спросить, но посмотрел на котиковую шапку и отвернулся, ища дальше, к больному на костылях:
– Милай! Куда это несть, а?
Безногий показал ему на дверь лаборатории.
Павла Николаевича просто тошнило.
Раскрылась опять наружная дверь – и в одном белом халате вошла сестра, не миловидная, слишком долголицая. Она сразу заметила Павла Николаевича, и догадалась, и подошла к нему.
– Простите, – сказала она через запышку, румяная до цвета накрашенных губ, так спешила. – Простите, пожалуйста! Вы давно меня ждёте? Там лекарства привезли, я принимаю.
Павел Николаевич хотел ответить едко, но сдержался. Уж он рад был, что ожидание кончилось. Подошёл, неся чемодан и сумку с продуктами, Юра – в одном костюме, без шапки, как правил машиной, – очень спокойный, с покачивающимся высоким светлым чубом.
– Пойдёмте! – вела старшая сестра к своей кладовке под лестницей. – Я знаю, Низамутдин Бахрамович мне говорил, вы будете в своём белье и привезли свою пижаму, только ещё не ношенную, правда?
– Из магазина.
– Это обязательно, иначе ведь нужна дезинфекция, вы понимаете? Вот здесь вы переоденетесь.
Она отворила фанерную дверь и зажгла свет. В каморке со скошенным потолком не было окна, а висело много графиков цветными карандашами.
Юра молча занёс туда чемодан, вышел, а Павел Николаевич вошёл переодеваться. Старшая сестра рванулась куда-то ещё за это время сходить, но тут подошла Капитолина Матвеевна:
– Девушка, вы что, так торопитесь?
– Да н-немножко…
– Как вас зовут?
– Мита.
– Странное какое имя. Вы не русская?
– Немка…
– Вы нас ждать заставили.
– Простите, пожалуйста. Я сейчас там принимаю…
– Так вот слушайте, Мита, я хочу, чтоб вы знали. Мой муж… заслуженный человек, очень ценный работник. Его зовут Павел Николаевич.
– Павел Николаевич, хорошо, я запомню.
– Понимаете, он и вообще привык к уходу, а сейчас у него такая серьёзная болезнь. Нельзя ли около него устроить дежурство постоянной сестры?
Озабоченное неспокойное лицо Миты ещё озаботилось. Она покачала головой:
– У нас, кроме операционных, на шестьдесят человек три дежурных сестры днём. А ночью две.
– Ну вот, видите! Тут умирать будешь, кричать – не подойдут.
– Почему вы так думаете? Ко всем подходят.
Ко «всем»!.. Если она говорила «ко всем», то что ей объяснять?
– К тому ж ваши сёстры меняются?
– Да, по двенадцать часов.
– Ужасно это обезличенное лечение!.. Я бы сама с дочерью сидела посменно! Я бы постоянную сиделку за свой счёт пригласила, – мне говорят – и это нельзя…?
– Я думаю, это невозможно. Так никто ещё не делал. Да там в палате и стула негде поставить.
– Боже мой, воображаю, что это за палата! Ещё надо посмотреть эту палату! Сколько ж там коек?
– Девять. Да это хорошо, что сразу в палату. У нас новенькие лежат на лестницах, в коридорах.
– Девушка, я буду всё-таки просить, вы знаете своих людей, вам легче организовать. Договоритесь с сестрой или с санитаркой, чтобы к Павлу Николаевичу было внимание не казённое… – она уже расщёлкнула большой чёрный ридикюль и вытянула оттуда три пятидесятки.
Недалеко стоявший молчаливый сын отвернулся.
Мита отвела обе руки за спину.
– Нет, нет! Таких поручений…
– Но я же не вам даю! – совала ей в грудь растопыренные бумажки Капитолина Матвеевна. – Но раз нельзя это сделать в законном порядке… Я плачу за работу! А вас прошу только о любезности передать!
– Нет-нет, – холодела сестра. – У нас так не делают.
Со скрипом двери из каморки вышел Павел Николаевич в новенькой зелёно-коричневой пижаме и тёплых комнатных туфлях с меховой оторочкой. На его почти безволосой голове была новенькая малиновая тюбетейка. Теперь, без зимнего воротника и кашне, особенно грозно выглядела его опухоль в кулак на боку шеи. Он и голову уже не держал ровно, а чуть набок.
Сын пошёл собрать в чемодан всё снятое. Спрятав деньги в ридикюль, жена с тревогой смотрела на мужа:
– Не замёрзнешь ли ты?.. Надо было тёплый халат тебе взять. Привезу. Да, здесь же шарфик, – она вынула из его кармана. – Обмотай, чтоб не простудить! – В чернобурках и в шубе она казалась втрое мощнее мужа. – Теперь иди в палату, устраивайся. Разложи продукты, осмотрись, продумай, что тебе нужно, я буду сидеть ждать. Спустишься, скажешь – к вечеру всё привезу.
Она не теряла головы, она всегда всё предусматривала. Она была настоящий товарищ по жизни. Павел Николаевич с благодарностью и страданием посмотрел на неё, потом на сына.
– Ну так, значит, едешь, Юра?
– Вечером поезд, папа, – подошёл Юра. Он держался с отцом почтительно, но, как всегда, порыва у него не было никакого, сейчас вот – порыва разлуки с отцом, оставляемым в больнице. Он всё воспринимал погашенно.
– Так, сынок. Значит, это первая серьёзная командировка. Возьми сразу правильный тон. Никакого благодушия! Тебя благодушие губит! Всегда помни, что ты – не Юра Русанов, не частное лицо, ты – представитель за-ко-на, понимаешь?
Понимал Юра или нет, но Павлу Николаевичу трудно было сейчас найти более точные слова. Мита мялась и рвалась идти.
– Так я же подожду с мамой, – улыбался Юра. – Ты не прощайся, иди пока, пап.
– Вы дойдёте сами? – спросила Мита.
– Боже мой, человек еле стоит, неужели вы не можете довести его до койки? Сумку донести!
Павел Николаевич сиротливо посмотрел на своих, отклонил поддерживающую руку Миты и, крепко взявшись за перила, стал всходить. Сердце его забилось, и ещё не от подъёма совсем. Он всходил по ступенькам, как всходят на этот, на как его… ну, вроде трибуны, чтобы там, наверху, отдать голову.
Старшая сестра, опережая, взбежала вверх с его сумкой, там что-то крикнула Марии и, ещё прежде чем Павел Николаевич прошёл первый марш, уже сбегала по лестнице другою стороной и из корпуса вон, показывая Капитолине Матвеевне, какая тут ждёт её мужа чуткость.
А Павел Николаевич медленно взошёл на лестничную площадку – широкую и глубокую, какие могут быть только в старинных зданиях. На этой серединной площадке, ничуть не мешая движению, стояли две кровати с больными и ещё тумбочки при них. Один больной был плох, изнурён и сосал кислородную подушку.
Стараясь не смотреть на его безнадёжное лицо, Русанов повернул и пошёл выше, глядя вверх. Но и в конце второго марша его не ждало ободрение. Там стояла сестра Мария. Ни улыбки, ни привета не излучало её смуглое иконописное лицо. Высокая, худая и плоская, она ждала его, как солдат, и сразу же пошла верхним вестибюлем, показывая куда. Отсюда было несколько дверей, и, только их не загораживая, ещё стояли кровати с больными. В безоконном завороте под постоянно горящей настольной лампой стоял письменный столик сестры, её же процедурный столик, а рядом висел настенный шкаф, с матовым стеклом и красным крестом. Мимо этих столиков, ещё мимо кровати, и Мария указала длинной сухой рукой:
– Вторая от окна.
И уже торопилась уйти – неприятная черта общей больницы, не постоит, не поговорит.
Створки двери в палату были постоянно распахнуты, и всё же, переходя порог, Павел Николаевич ощутил влажно-спёртый смешанный, отчасти лекарственный запах – мучительный при его чуткости к запахам.
Койки стояли поперёк стен тесно, с узкими проходами по ширине тумбочек, и средний проход вдоль комнаты тоже был двоим разминуться.
В этом проходе стоял коренастый широкоплечий больной в розово-полосчатой пижаме. Толсто и туго была обмотана бинтами вся его шея – высоко, почти под мочки ушей. Белое сжимающее кольцо бинтов не оставляло ему свободы двигать тяжёлой тупой головой, буро заросшей.
Этот больной хрипло рассказывал другим, слушавшим с коек. При входе Русанова он повернулся к нему всем корпусом, с которым наглухо сливалась голова, посмотрел без участия и сказал:
– А вот – ещё один рачок.
Павел Николаевич не счёл нужным ответить на эту фамильярность. Он чувствовал, что и вся комната сейчас смотрит на него, но ему не хотелось ответно оглядывать этих случайных людей и даже здороваться с ними. Он лишь отодвигающим движением повёл рукою в воздухе, указывая бурому больному посторониться. Тот пропустил Павла Николаевича и опять так же всем корпусом с приклёпанной головой повернулся вослед.
– Слышь, браток, у тебя рак – чего? – спросил он нечистым голосом.
Павла Николаевича, уже дошедшего до своей койки, как заскоблило от этого вопроса. Он поднял глаза на нахала, стараясь не выйти из себя (но всё-таки плечи его дёрнулись), и сказал с достоинством:
– Ни чего. У меня вообще не рак.
Бурый просопел и присудил на всю комнату:
– Ну и дурак! Если б не рак – разве б сюда положили?
2
В этот первый же вечер в палате за несколько часов Павлу Николаевичу стало жутко.
Твёрдый комок опухоли – неожиданной, ненужной, безсмысленной, никому не полезной – притащил его сюда, как крючок тащит рыбу, и бросил на эту железную койку – узкую, жалкую, со скрипящей сеткой, со скудным матрасиком. Стоило только переодеться под лестницей, проститься с родными и подняться в эту палату – как захлопнулась вся прежняя жизнь, а здесь выперла такая мерзкая, что от неё ещё жутче стало, чем от самой опухоли. Уже не выбрать было приятного, успокаивающего, на что смотреть, а надо было смотреть на восемь пришибленных существ, теперь ему как бы равных, – восемь больных в бело-розовых, сильно уже слинявших и поношенных пижамках, где залатанных, где надорванных, почти всем не по мерке. И уже не выбрать было, что слушать, а надо было слушать нудные разговоры этих сбродных людей, совсем не касавшиеся Павла Николаевича и неинтересные ему. Он охотно приказал бы им замолчать, и особенно этому надоедному буроволосому с бинтовым охватом по шее и защемлённой головой – его просто Ефремом все звали, хотя был он не молод.
Но Ефрем никак не усмирялся, не ложился и из палаты никуда не уходил, а неспокойно похаживал средним проходом вдоль комнаты. Иногда он взмарщивался, перекашивался лицом, как от укола, брался за голову. Потом опять ходил. И, походив так, останавливался именно у кровати Русанова, переклонялся к нему через спинку всей своей негнущейся верхней половиной, выставлял широкое конопатое хмурое лицо и внушал:
– Теперь всё, профессор. Домой не вернёшься, понятно?
В палате было очень тепло, Павел Николаевич лежал сверх одеяла в пижаме и тюбетейке. Он поправил очки с золочёным ободочком, посмотрел на Ефрема строго, как умел смотреть, и ответил:
– Я не понимаю, товарищ, чего вы от меня хотите? И зачем вы меня запугиваете? Я ведь вам вопросов не задаю.
Ефрем только фыркнул злобно:
– Да уж задавай не задавай, а домой не вернёшься. Очки вон можешь вернуть. Пижаму новую.
Сказав такую грубость, он выпрямил неповоротливое туловище и опять зашагал по проходу, нелёгкая его несла.
Павел Николаевич мог, конечно, оборвать его и поставить на место, но для этого он не находил в себе обычной воли: она упала и от слов обмотанного чёрта ещё опускалась. Нужна была поддержка, а его в яму сталкивали. В несколько часов Русанов как потерял всё положение своё, заслуги, планы на будущее – и стал семью десятками килограммов тёплого белого тела, не знающего своего завтра.
Наверно, тоска отразилась на его лице, потому что в одну из следующих проходок Ефрем, став напротив, сказал уже миролюбно:
– Если и попадёшь домой – ненадолго, а-апять сюда. Рак людей любит. Кого рак клешнёй схватит – то уж до смерти.
Не было сил Павла Николаевича возражать – и Ефрем опять занялся ходить. Да и кому было в комнате его осадить! – все лежали какие-то прибитые или нерусские. По той стене, где из-за печного выступа помещалось только четыре койки, одна койка – прямо против русановской, ноги к ногам через проход, – была Ефремова, а на трёх остальных совсем были юнцы: простоватый смуглявый хлопец у печки, молодой узбек с костылём, а у окна – худой, как глист, и скрюченный на своей койке пожелтевший стонущий парень. В этом же ряду, где был Павел Николаевич, налево лежали два нацмена, потом у двери русский пацан, рослый, стриженный под машинку, сидел читал, – а по другую руку на последней приоконной койке тоже сидел будто русский, но не обрадуешься такому соседству: морда у него была бандитская. Так он выглядел, наверно, от шрама (начинался шрам близ угла рта и переходил по низу левой щеки почти на шею); а может быть, от непричёсанных дыбливых чёрных волос, торчавших и вверх, и вбок; а может, вообще от грубого жёсткого выражения. Бандюга этот туда же тянулся, к культуре – дочитывал книгу.
Уже горел свет – две яркие лампы с потолка. За окнами стемнело. Ждали ужина.
– Вот тут старик есть один, – не унимался Ефрем, – он внизу лежит, операция ему завтра. Так ему ещё в сорок втором году рачок маленький вырезали и сказали – пустяки, иди гуляй. Понял? – Ефрем говорил будто бойко, а голос был такой, как самого бы резали. – Тринадцать лет прошло, он и забыл про этот диспансер, водку пил, баб трепал – нотный старик, увидишь. А сейчас рачище у него та-кой вырос! – Ефрем даже чмокнул от удовольствия. – Прямо со стола да как бы не в морг.
– Ну хорошо, довольно этих мрачных предсказаний! – отмахнулся и отвернулся Павел Николаевич и не узнал своего голоса: так неавторитетно, так жалобно он прозвучал.
А все молчали. Ещё нудьги нагонял этот исхудалый, всё вертящийся парень у окна в том ряду. Он сидел – не сидел, лежал – не лежал, скрючился, подобрав коленки к груди, и, никак не находя удобнее, перевалился головой уже не к подушке, а к изножью кровати. Он тихо-тихо стонал, гримасами и подёргиваниями выражая, как ему больно.
Павел Николаевич отвернулся и от него, спустил ноги в шлёпанцы и стал безсмысленно инспектировать свою тумбочку, открывая и закрывая то дверцу, где были густо сложены у него продукты, то верхний ящичек, где легли туалетные принадлежности и электробритва.
А Ефрем всё ходил, сложив руки в замок перед грудью, иногда вздрагивал от уколов и гудел своё, как припев, как по покойнику:
– Так что – сикиверное наше дело… очень сикиверное…
Лёгкий хлопок раздался за спиной Павла Николаевича. Он обернулся туда осторожно, потому что каждое шевеление шеи отдавалось болью, и увидел, что это его сосед, полубандит, хлопнул коркой прочтённой книги и вертел её в своих больших шершавых руках. Наискось по тёмно-синему переплёту, и такая же по корешку, шла тиснённая золотом и уже потускневшая роспись писателя. Чья это роспись, Павел Николаевич не разобрал, а спрашивать у такого типа не хотелось. Он придумал соседу прозвище – Оглоед. Очень подходило.
Оглоед угрюмыми глазищами смотрел на книгу и объявил беззастенчиво громко на всю комнату:
– Если б не Дёмка эту книгу в шкафу выбирал, так поверить бы нельзя, что нам её не подкинули.
– Чего – Дёмка? Какую книгу? – отозвался пацан от двери, читая своё.
– По всему городу шарь – пожалуй, нарочно такой не найдёшь. – Оглоед смотрел в широкий тупой затылок Ефрема (давно не стриженные, от неудобства его волосы налезали на повязку), потом в напряжённое лицо. – Ефрем! Хватит скулить. Возьми-ка вот книжку почитай.
Ефрем остановился как бык, посмотрел мутно.
– А зачем – читать? Зачем, как все подохнем скоро?
Оглоед шевельнул шрамом:
– Вот потому и торопись, что скоро подохнем. На, на.
Он уже протягивал книгу Ефрему, но тот не шагнул:
– Много тут читать. Не хочу.
– Да ты неграмотный, что ли? – не очень-то и уговаривал Оглоед.
– Я – даже очень грамотный. Где мне нужно – я очень грамотный.
Оглоед пошарил за карандашом на подоконнике, открыл книгу сзади и, просматривая, кое-где поставил точки.
– Не боись, – бормотнул он, – тут рассказишки маленькие. Вот эти несколько – попробуй. Да надоел больно, скулишь. Почитай.
– А Ефрем ничего не боется! – Он взял книгу и перешвырнул к себе на койку.
На одном костыле прохромал из двери молодой узбек Ахмаджан – один весёлый в комнате. Объявил:
– Ложки к бою!
И смуглявый у печки оживился:
– Вечерю несут, хлопцы!
Показалась раздатчица в белом халате, держа поднос выше плеча. Она перевела его перед себя и стала обходить койки. Все, кроме измученного парня у окна, зашевелились и разбирали тарелки. На каждого в палате приходилась тумбочка, и только у пацана Дёмки не было своей, а пополам с ширококостым казахом, у которого распух над губою неперебинтованный безобразный тёмно-бурый струп.
1 2 . . .49 >>>далее
| 