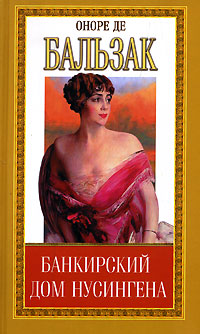
ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАК
БАНКИРСКИЙ ДОМ НУСИНГЕНА
Госпоже Зюльме Карро
Кому, как не вам, сударыня, чей возвышенный и неподкупный ум — сокровище для друзей, вам, кто для меня — и публика, и самая снисходительная из сестер, должен я посвятить этот труд? Примите же его в знак дружбы, которой я горжусь. Вы и еще несколько человек с душою столь же прекрасной, как ваша, поймете мою мысль, читая «Банкирский дом Нусингена» в сочетании с «Цезарем Бирото». Разве не служит этот контраст поучительным социальным уроком?
Дe Бальзак.
Вы знаете, как тонки перегородки между отдельными кабинетами в шикарнейших кабачках Парижа. У Вери, например, самый большой кабинет разделяется надвое перегородкой, которую можно в случае надобности ставить, а затем убирать. Впрочем, дело происходило не у Вери, а в другом приятном местечке, назвать которое я не считаю удобным. Мы были вдвоем, и я скажу, как Прюдом (самодовольный и ограниченный буржуа, действующее лицо комедии «Величие и падение господина Прюдома» и «Мемуаров Жозефа Прюдома» — произведений французского писателя Анри Монье (1805—1877)) у Анри Монье: «Я не хотел бы ее компрометировать». Мы сидели в маленьком кабинете, смаковали лакомые блюда восхитительного во всех отношениях обеда и, убедившись, что перегородки не слишком плотны, беседовали вполголоса. Мы приступили уже к жаркому, а в соседнем помещении, откуда доносилось до нас лишь потрескивание дров в камине, еще никого не было. Пробило восемь часов. Послышались шаги, обрывки разговора, лакеи внесли свечи: мы поняли, что кабинет рядом с нами занят. По голосам я угадал, кто наши соседи.
Их было четверо — четверо самых дерзких бакланов, рожденных в пене, венчающей гребни изменчивых волн нынешнего поколения; приятные молодые люди, источники существования которых весьма загадочны, ибо ни ренты, ни поместий у них нет, а живут они припеваючи. Эти хитроумные кондотьеры современной коммерции, превратившейся в жесточайшую из войн, оставляют все тревоги своим кредиторам, удовольствия берут себе и заботятся лишь о собственном туалете. Они, впрочем, достаточно смелы, чтобы по примеру Жана Барта выкурить сигару на бочке пороха, — быть может, для того, чтобы выдержать взятую на себя роль. Они насмешливее бульварных листков и готовы потешаться над каждым, не щадя даже самих себя; недоверчивые и проницательные, расточительные и алчные, в вечной погоне за выгодным дельцем, они завидуют другим, но довольны собой; глубокомысленные политики по наитию, все анализирующие и все предугадывающие, они еще не пролезли в высший свет, куда им так хочется попасть. Только одному из четырех удалось пробиться, да и то лишь к нижним ступенькам лестницы. Деньги еще не все, и выскочка, окруженный льстецами, только через полгода почувствует, что ему очень многого недостает. Этот надутый выскочка по имени Андош Фино, человек неразговорчивый, холодный и недалекий, усердно пресмыкался перед теми, кто мог ему пригодиться, и был наглым с теми, в ком нужда прошла. Подобно одному из забавных персонажей балета «Гюстав», сзади он казался маркизом, а спереди — простолюдином. Этот прелат от промышленности содержит при себе в качестве прихвостня журналиста Эмиля Блонде, человека очень умного, но безалаберного, блестящего и талантливого, но лентяя, знающего, что его эксплуатируют, и не препятствующего этому, то коварного, то добродушного — смотря по настроению: таких людей любят, но не уважают. Лукавый, как водевильная субретка, готовый предоставить свое перо кому угодно и отдать сердце кому попало, Эмиль очаровательнейший из тех мужчин-куртизаиок, о которых самый злоязычный из наших остряков сказал: «Они милее мне в атласных башмачках, чем в сапогах». Третий — Кутюр — живет спекуляцией. Затевая дело за делом, он барышами с одного покрывает убытки от другого. Нервное напряжение игры помогает ему держаться на поверхности; решительно и смело рассекая волны, он носится по парижскому морю наживы в поисках незанятого островка, на котором можно было бы осесть. В этой компании он явно не на месте. Что касается последнего, самого язвительного из всех, то достаточно назвать его: Бисиу! Но увы! это уже не Бисиу 1825 года, а Бисиу 1836 года, паясничающий человеконенавистник, язвительный и остроумный, разъяренный, как дьявол, тем, что столько ума потрачено впустую и что в последнюю революцию ему ничем не удалось поживиться; подобно Пьеро из «Фюнамбюля», он направо и налево раздает пинки, знает как свои пять пальцев наше время и его скандальную хронику, приукрашивает ее озорными выдумками, норовит, как клоун, вскочить каждому на плечи и, как палач, поставить свое клеймо.
Утолив голод, наши соседи догнали нас и принялись за десерт; а так как мы сидели тихо, они сочли, что рядом никого нет. И вот в сигарном дыму, под действием шампанского, за изысканным десертом завязалась интимная беседа. Это беседа, проникнутая холодной рассудочностью, от которой каменеют самые стойкие чувства и гаснут самые великодушные порывы, и полная ядовитой иронии, обращающей веселый смех в издевку, изобличала душевную опустошенность людей, поглощенных только собой, не имеющих иных целей, кроме удовлетворения собственного эгоизма, порожденного временем, в которое мы живем. Только «Племянник Рамо» — памфлет на человека, который Дидро не решился опубликовать, книга, умышленно обнажающая людские язвы, может сравниться с этим устным памфлетом, свободным от каких бы то ни было побочных соображений, где словами клеймилось то, что ум еще окончательно не осудил, где все строилось лишь из развалин, все отрицалось и вместе с тем вызывало восхищение то, что признается скептицизмом: всемогущество, всеведение и всеблагость денег. Подвергнув беглому огню круг общих знакомых, злословие приступило к беспощадному обстрелу близких друзей. Когда слово взял Бисиу, я знаком дал понять, что хотел бы остаться и послушать. Мы услышали тогда одну из тех безжалостных импровизаций, за которые ценили этого художника люди с пресыщенным умом; и хотя Бисиу то и дело прерывали, его речь запечатлелась в моей памяти со стенографической точностью. И по идеям и по форме она далека была от литературных канонов: то было нагромождение мрачных картин, рисующих наше время, которому не мешало бы почаще преподносить подобные истории, — ответственность за них я возлагаю, впрочем, на рассказчика. Мимика и жесты Бисиу, голос которого то и дело менялся в зависимости от выводившихся на сцену персонажей, были, видимо, бесподобны, — судя по одобрительным возгласам трех его слушателей.
— И Растиньяк тебе отказал? — спросил Блонде у Фино.
— Наотрез.
— А ты пригрозил ему газетами? — осведомился Бисиу.
— Он только засмеялся, — ответил Фино.
— Растиньяк — прямой наследник покойного де Марсе, он преуспеет в политике, как преуспел в высшем свете, — сказал Блонде.
— Но как ему удалось сколотить себе состояние? — спросил Кутюр. — В 1819 году он ютился вместе со знаменитым Бьяншоном в жалком пансионе Латинского квартала; семья его питалась жареными майскими жуками, запивая это блюдо местным кислым вином, чтобы иметь возможность посылать ему сто франков в месяц; поместье его отца не приносило и тысячи экю; у Растиньяка на руках были брат и две сестры, а теперь...
— А теперь у него сорок тысяч франков годового дохода, — подхватил Фино, — его сестры, получив богатое приданое, удачно выданы замуж; доходы с поместья он предоставил матери.
— Еще в 1827 году у него не было ни гроша, — сказал Блонде.
— Так то было в 1827 году, — возразил Бисиу.
— Ну, а сейчас, — продолжал Фино, — он вот-вот станет министром, пэром Франции и всем, чем захочет. Года три назад он вполне благопристойно порвал с Дельфиной и женится только тогда, когда ему представится выгодная партия. Что ж, теперь-то он может жениться на аристократке! У молодчика хватило смекалки сойтись с богатой женщиной.
— Друзья мои, примите во внимание смягчающие вину обстоятельства, — сказал Блонде. — Вырвавшись из когтей нищеты, он попал в лапы пройдохи.
— Ты хорошо знаешь Нусингена, — начал Бисиу, — представь же себе, что первое время Дельфина и Растиньяк считали его покладистым. Казалось, жена для него — украшение дома, игрушка. И вот что, по-моему, делает этого человека неуязвимым с головы до ног: Нусинген отнюдь не скрывает, что жена — это вывеска для его богатства, вещь необходимая, но второстепенная в напряженной жизни политических деятелей и крупных финансистов. Он как-то сказал при мне, что Бонапарт в своих отношениях с Жозефиной вел себя глупо, по-мещански: смешно было, воспользовавшись ею, как ступенькой, пытаться затем сделать из нее подругу жизни.
— Выдающийся человек должен смотреть на женщину так, как на нее смотрят на Востоке, — заявил Блонде.
— Барон слил восточную мудрость с западной в очаровательную парижскую теорию. Он терпеть не мог строптивого де Марсе, зато Растиньяк пришелся ему по душе, и барон его эксплуатировал, о чем тот и не подозревал: Нусинген взвалил на него всю тяжесть своих супружеских обязанностей. Растиньяк выносил все капризы Дельфины, возил ее в Булонский лес, сопровождал в театр. Наш нынешний великий человечек от политики долгое время проводил свою жизнь за чтением и писанием любовных записок. Сперва Эжена бранили по всякому поводу; он веселился с Дельфиной, когда ей было весело, грустил, когда она грустила, он изнывал под бременем ее мигреней, ее сердечных излияний; он отдавал ей все свое время, убивал драгоценные годы своей молодости, чтобы заполнить пустоту жизни этой праздной парижанки. Дельфина подолгу обсуждала с ним, какие драгоценности ей больше к лицу, на него обрушивались вспышки ее гнева и град ее причуд; с бароном же она в виде компенсации была очаровательно мила. Нусинген только посмеивался; когда же он замечал, что Растиньяк изнемогает под тяжестью непосильного гнета, он делал вид, будто что-то подозревает, и общий страх перед супругом связывал любовников еще крепче.
— Я допускаю, что богатая женщина могла содержать Растиньяка, и содержать его прилично; но откуда у него состояние? — спросил Кутюр. — Такое состояние, как у него сейчас, на улице не валяется, а ведь никто никогда не подозревал Растиньяка в умении изобрести выгодное дело!
— Он получил наследство, — сказал Фино.
— От кого? — спросил Блонде.
— От простаков, попавшихся ему на дороге, — подхватил Кутюр.
— Он не все награбил, дети мои, — возразил Бисиу: —
...Спокойнее. Не надо бить тревогу:
Наш век с мошенником на дружескую ногу.
Я сейчас вам расскажу, откуда у него состояние. Но сперва воздадим должное таланту! Наш друг отнюдь не «молодчик», как назвал его Фино, а джентльмен, знакомый с правилами игры, разбирающийся в картах и пользующийся уважением публики. В нужный момент Растиньяк сумеет пустить в ход весь свой ум, подобно вояке, который, не растрачивая своей отваги зря, отдает ее внаймы сроком на три месяца, под надежное обеспечение и за тремя подписями. На первый взгляд он может показаться резким, болтливым, непоследовательным в своих убеждениях, непостоянным в своих планах; но если представится серьезное дело, подходящий случай, — он не станет разбрасываться, как сидящий перед вами Блонде, который при подобных обстоятельствах пускается в рассуждения к выгоде соседа, — нет, Растиньяк весь соберется, подтянется, высмотрит место, куда следует направить удар, и ринется во весь опор в атаку. Он врезается с храбростью Мюрата в неприятельское каре, крушит акционеров, учредителей и всю их лавочку, а пробив брешь, возвращается к своей изнеженной и беззаботной жизни, вновь становится сладострастным сыном юга, праздным пустословом Растиньяком, который может вставать теперь в полдень, ибо в дни решающих схваток он не ложился вовсе.
— Вот говорит как пишет! Но откуда все-таки у Растиньяка состояние? — спросил Фино.
— Бисиу нарисует нам карикатуру, — заметил Блонде. — Капитал Растиньяка — это Дельфина де Нусинген, замечательная женщина, которая сочетает смелость с предусмотрительностью.
— Разве она давала тебе деньги взаймы? — осведомился Бисиу.
Раздался взрыв хохота.
— Вы о ней превратного мнения, — заметил Кутюр, обращаясь к Блонде. — Весь ее ум — в умении ввернуть острое словцо, в том, чтобы любить Растиньяка с обременительной для него верностью и слепо ему повиноваться. Настоящая итальянка!
— Если только дело не касается денег, — язвительно вставил Андош Фино.
— Оставьте, господа! — елейным голосом продолжал Бисиу. — Неужели вы решитесь после всего сказанного поставить в вину бедняжке Растиньяку, что он жил на счет банкирского дома Нусингена, что для него, точь-в-точь как это сделал когда-то наш приятель де Люпо для юной Торпиль, обставили квартирку? Это было бы мещанством в духе улицы Сен-Дени. Во-первых, говоря абстрактно, по выражению Ройе-Коллара, вопрос этот может выдержать критику чистого разума , что же касается критики разума нечистого...
— Ну, поехал! — обратился Фино к Блонде.
— Но ведь он прав! — воскликнул Блонде. — Вопрос этот имеет большую давность: подобный случай послужил причиной пресловутой дуэли между Жарнаком и ла Шатеньре, кончившейся смертью последнего. Жарнака обвиняли в слишком нежных отношениях с тещей, дававшей горячо любимому зятю возможность вести роскошную жизнь. Когда такие дела не вызывают сомнений, говорить о них не полагается. Но Генрих Второй позволил себе позлословить на сей счет, и ла Шатеньре, из преданности королю, взял грех сплетни на себя. Вот чем была вызвана дуэль, обогатившая французский язык выражением «удар Жарнака».
— Раз это выражение освящено такой давностью — значит, оно благородно, — сказал Фино.
— В качестве бывшего владельца газет и журналов ты вполне мог этого не знать, — заметил Блонде.
— Бывают женщины, — назидательно продолжал Бисиу, — бывают также и мужчины, которые умеют как-то разделять свое существо и отдавать только часть его (заметьте, я облекаю свою мысль в философскую форму). Эти люди строго разграничивают материальные интересы и чувства; они отдают женщине свою жизнь, время и честь, но считают неподобающим шуршать при этом бумажками, на которых значится: «Подделка преследуется по закону». Да и сами они тоже ничего не примут от женщины. Позор, если наряду со слиянием душ допускается слияние материальных интересов. Эту теорию охотно проповедуют, но применяют редко...
— Какой вздор! — воскликнул Блонде. — Маршал Ришелье — а уж он-то был опытен в любовных делах — назначил госпоже де ла Поплиньер после истории с каминной доской пенсию в тысячу луидоров. Агнесса Сорель в простоте душевной отдала все свое состояние Карлу Седьмому, и король принял дар. Жак Кер (богатый французский купец, казначей короля Карла VII. Был обвинен придворными кругами, заинтересованными в конфискации его имущества, в государственной измене, бежал из Франции и умер в изгнании.) взял на содержание французскую корону, которая охотно пошла на это и оказалась затем неблагодарной, как женщина.
— Господа, — сказал Бисиу, — любовь без нерасторжимой дружбы — по-моему, просто мимолетное распутство. Что же это за полное самоотречение, если приберегаешь что-то для себя? Эти две теории, столь противоречивые и глубоко безнравственные, примирить невозможно. Я думаю, что тот, кто боится полного слияния, просто не верит в его прочность, а тогда — прощай иллюзии! Любовь, которая не считает себя вечной, — отвратительна (совсем по Фенелону!). Вот почему люди, знающие свет, холодные наблюдатели, так называемые порядочные люди, мужчины в безукоризненных перчатках и галстуках, которые, не краснея, женятся на деньгах, проповедуют необходимость полной раздельности чувств и состояний. Все прочие — это влюбленные безумцы, считающие, что на свете никого не существует, кроме них и их возлюбленных! Миллионы для них — прах; перчатка или камелия их божества дороже миллионов! Вы никогда не найдете у них презренного металла, — они успели его промотать, — но обнаружите зато на дне красивой кедровой шкатулки остатки засохших цветов! Они не отделяют себя от обожаемого создания. «Я» для них больше не существует. «Ты» — вот их воплотившееся божество. Что поделаешь? Разве излечишь этот тайный сердечный недуг? Бывают глупцы, которые любят без всякого расчета, и бывают мудрецы, которые вносят расчет в любовь.
— Он просто неподражаем, этот Бисиу! — воскликнул Блонде. — А ты что скажешь, Фино?
— В любом другом месте, — с важностью заявил Фино, — я бы ответил как джентльмен, но здесь, я думаю...
— Как презренные шалопаи, среди которых ты имеешь честь находиться, — подхватил Бисиу.
— Совершенно верно! — подтвердил Фино.
— А ты? — спросил Бисиу Кутюра.
— Вздор! — воскликнул Кутюр. — Женщина, не желающая превратить свое тело в ступеньку, помогающую ее избраннику достичь намеченной цели, любит только себя.
— А ты, Блонде?
— Я применяю эту теорию на практике.
— Так вот, — язвительно продолжал Бисиу, — Растиньяк был другого мнения. Брать без отдачи — возмутительно и даже несколько легкомысленно; но брать, чтобы затем, подобно господу богу, воздать сторицей, — это по-рыцарски. Так думал Растиньяк. Он был глубоко унижен общностью материальных интересов с Дельфиной де Нусинген. Я вправе говорить об этом, ибо при мне он со слезами на глазах жаловался на свое положение. Да, он плакал настоящими слезами!.. правда, после ужина. А по-вашему, выходит...
— Да ты издеваешься над нами, — сказал Фино.
— Ничуть. Речь идет о Растиньяке. По-вашему, выходит, что его страдания доказывали его испорченность, ибо свидетельствовали о том, что он недостаточно любил Дельфину! Но что поделаешь? Заноза эта крепко засела в сердце бедняги: ведь он — в корне развращенный дворянин, а мы с вами — добродетельные служители искусства. Итак, Растиньяк задумал обогатить Дельфину — он, бедняк, ее — богачку! И поверите ли?.. ему это удалось. Растиньяк, который мог бы драться на дуэли, как Жарнак, перешел с тех пор на точку зрения Генриха Второго, выраженную в известном изречении: «Абсолютной добродетели не существует, все зависит от обстоятельств». Это имеет прямое отношение к происхождению богатства Растиньяка.
— Приступал бы ты уж лучше к своей истории, чем подстрекать нас к клевете на самих себя, — с очаровательным добродушием сказал Блонде.
— Ну, сынок, — возразил Бисиу, слегка стукнув его по затылку, — ты вознаграждаешь себя шампанским.
— Во имя святого Акционера, — сказал Кутюр, — выкладывай же наконец свою историю!
— Я хотел было рассказывать по порядку, а ты своим заклинанием толкаешь меня прямо к развязке, — возразил Бисиу.
— Значит, в этой истории и впрямь действуют акционеры? — спросил Фино.
— Богатейшие, вроде твоих, — ответил Бисиу.
— Мне кажется, — с важностью заявил Фино, — ты мог бы относиться с большим уважением к приятелю, у которого ты не раз перехватывал в трудную минуту пятьсот франков.
— Человек! — крикнул Бисиу.
— Что ты хочешь заказать? — спросил Блонде.
— Пятьсот франков, чтобы вернуть их Фино, развязать себе язык и покончить с благодарностью.
— Рассказывай же дальше, — с деланным смехом сказал Фино.
— Вы свидетели, — продолжал Бисиу, — что я не продался этому нахалу, который оценивает мое молчание всего лишь в пятьсот франков! Не бывать тебе никогда министром, если ты не научишься как следует расценивать человеческую совесть! Ну ладно, дорогой Фино, — продолжал он вкрадчиво, — я расскажу эту историю без всяких личностей, и мы с тобой будем в расчете.
— Он станет нам сейчас доказывать, — сказал, улыбаясь, Кутюр, — что Нусинген составил состояние Растиньяку.
— Ты не так далек от истины, — сказал Бисиу. — Вы даже не представляете себе, что такое Нусинген как финансист.
— Знаешь ли ты что-нибудь о начале его карьеры? — спросил Блонде.
— Я познакомился с ним у него дома, — ответил Бисиу, — но мы, возможно, встречались когда-нибудь и на большой дороге.
— Успех банкирского дома Нусингена — одно из самых необычайных явлений нашего времени, — продолжал Блонде. — В 1804 году Нусинген был еще мало известен, и тогдашние банкиры содрогнулись бы, узнав, что в обращении имеется на сто тысяч экю акцептированных им векселей. Великий финансист понимал тогда, что он величина небольшая. Как добиться известности? Он прекращает платежи. Отлично! Имя его, которое знали до сих пор только в Страсбурге и в квартале Пуассоньер, прогремело на всех биржах! Он рассчитывается со своими клиентами обесцененными акциями и возобновляет платежи; векселя его тотчас же получают хождение по всей Франции. Нелепый случай пожелал, чтобы акции, которыми он расплачивался, вновь приобрели ценность, пошли в гору и начали приносить доход. Знакомства с Нусингеном стали добиваться. Наступает 1815 год, наш молодчик собирает свои капиталы, покупает государственные бумаги накануне сражения при Ватерлоо, в момент кризиса прекращает платежи и расплачивается акциями Ворчинских копей, скупленными им на двадцать процентов ниже курса, по которому он сам же их выпускал. Да, да, господа! Он забирает в виде обеспечения сто пятьдесят тысяч бутылок шампанского у Гранде, предвидя банкротство этого добродетельного отца нынешнего графа д'Обриона, и столько же бутылок бордо у Дюберга. Эти триста тысяч бутылок, мой дорогой, которые он принял , заметьте, принял в уплату, по полтора франка, Нусинген продает с 1817 по 1819 год союзникам в Пале-Рояле по шести франков за бутылку. Векселя банкирского дома Нусингена и его имя становятся известны всей Европе. Наш знаменитый барон вознесся над бездной, которая поглотила бы всякого другого. Дважды его банкротство принесло огромные барыши кредиторам: он хотел их облапошить, не тут-то было! Он слывет честнейшим человеком в мире. При третьем банкротстве векселя банкирского дома Нусингена получат хождение в Азии, в Мексике, в Австралии, у дикарей. Уврар — единственный, кто разгадал этого эльзасца, сына некоего иудея, крестившегося ради карьеры, — как-то сказал: «Когда Нусинген выпускает из рук золото, знайте — он загребает бриллианты».
— Его приятель дю Тийе — одного с ним поля ягода, — заметил Фино. — Подумать только, что человек без роду и племени, у которого еще в 1814 году гроша за душой не было, стал теперь тем дю Тийе, которого вы знаете; к тому же он умудрился, — чего никто из нас, кроме тебя, Кутюр, сделать не сумел, — приобрести себе не врагов, а друзей. Словом, он так ловко спрятал концы в воду, что пришлось немало покопаться на свалке, чтобы установить, что еще в 1814 году он был приказчиком у одного парфюмера на улице Сент-Оноре.
— Чепуха! — воскликнул Бисиу. — Никогда не сравнивайте с Нусингеном мелкого жулика вроде дю Тийе, шакала, которому помогает только его нюх и который, почуяв запах падали, прибегает первым, чтобы урвать кость послаще. Вы только посмотрите на этих двух людей, один — насторожившийся, как кошка, поджарый и стремительный; другой — коренастый и тучный, грузный, как мешок, невозмутимый, как дипломат. У Нусингена тяжелая рука и холодный взгляд рыси. У него не показная, а глубокая проницательность: он скрытен и нападает врасплох, тогда как хитрость дю Тийе подобна (как сказал, не помню уж о ком, Наполеон) слишком тонкой нити: она рвется.
— Я вижу у Нусингена лишь одно преимущество перед дю Тийе: у него хватило здравого смысла понять, что финансисту следует довольствоваться баронским титулом, тогда как дю Тийе собирается добыть себе в Италии титул графа, — сказал Блонде.
— Блонде, дитя мое, одно только словечко, — перебил Кутюр. — Во-первых, Нусинген имел смелость заявить, что люди бывают честны только с виду; затем, чтобы хорошо его знать, надо принадлежать к деловому миру. Его банк — небольшое министерство; сюда входят государственные поставки, вина, шерсть, индиго — словом, все, на чем можно нажиться. Он — гений всеобъемлющий. Этот финансовый кит готов продать депутатов правительству и греков — туркам. Коммерция для него, сказал бы Кузен, — сумма разновидностей и единство разнообразий. Банк с этой точки зрения — та же политика, он требует хорошей головы и побуждает человека твердого закала стать выше стеснительных для него законов честности.
— Ты прав, сын мой, — сказал Блонде. — Но только мы одни понимаем, что в таком случае — это та же война, перенесенная в мир денег. Банкир — завоеватель, жертвующий тысячами людей для достижения тайных целей, его солдаты — интересы частных лиц. Ему приходится прибегать к военным хитростям, устраивать засады, бросать в бой своих сторонников, брать приступом города. Эти люди так близки обычно к политике, что в конце концов оказываются втянутыми в нее и теряют свое состояние. Банкирский дом Неккера прогорел из-за политики, пресловутого Самюэля Бернара политика почти разорила. В каждом веке бывает какой-нибудь банкир с колоссальным состоянием, после которого не остается ни состояния, ни наследников. Братья Пари, помогшие свалить Лоу, и сам Лоу, рядом с которым все эти господа, организующие акционерные общества, просто пигмеи, Буре, Божон — все они исчезли, не оставив после себя наследников. Банк, подобно Кроносу (в греческой мифологии отец бога Зевса, проглатывавший одного за другим рождавшихся у него детей, ибо ему было предсказано, что один из них отнимет у него власть), пожирает своих детей. Чтобы продлить свое существование, банкир должен сделаться дворянином, основателем династии, как Фуггеры, заимодавцы Карла Пятого, которые стали князьями Бабенгаузен и существуют и поныне... в «Готском альманахе». Банкиры тяготеют к аристократии из чувства самосохранения, быть может, не сознавая этого. Жак Кер стал родоначальником знатного рода Нуармутье, угасшего при Людовике Тринадцатом. Сколько энергии было в этом человеке, пожертвовавшем своим состоянием, чтобы возвести на престол законного монарха! Жак Кер умер властителем одного из островов Эгейского моря; он выстроил там великолепный собор.
— Ну, если вы будете забираться в дебри истории, мы далеко уйдем от современности, когда король не имеет больше права даровать дворянство, когда баронские и графские титулы раздают, увы! при закрытых дверях, — сказал Фино.
— Ты сожалеешь о тех временах, когда дворянское звание можно было купить за деньги, — и ты прав, — сказал Бисиу. — Но вернемся к нашему рассказу. Знаете ли вы Боденора? Нет, нет и нет. Ладно. Видите, как все в мире преходяще! Всего лишь десять лет назад бедняга был образцом дендизма. Но он так основательно забыт, что вы о нем знаете не больше, чем Фино о выражении «удар Жарнака» (говорю это не для того, чтобы тебя подразнить, Фино, а для красного словца!). Он по праву принадлежал к знати Сен-Жерменского предместья. Ну так вот! Боденор — первый простофиля, которого я хочу вам представить. Прежде всего — он именовался Годфруа де Боденор. Ни Фино, ни Блонде, ни Кутюр, ни я не можем не признать, что это — преимущество. Самолюбие славного малого отнюдь не страдало, когда при разъезде с бала в присутствии тридцати укутанных красавиц, дожидавшихся в сопровождении мужей и поклонников своих экипажей, лакей вызывал его карету. Все, что человеку отпущено богом, было у него на месте: он был здрав и невредим — ни бельма на глазу, ни парика, ни ватных подушечек для икр; ноги его не были ни вогнуты внутрь, ни выгнуты наружу, колени не распухали, спина прямая, талия тонкая, руки белые и красивые, волосы черные; лицо не чересчур румяное, как у приказчика из бакалейной лавки, и не слишком смуглое, как у калабрийца. Наконец — существенная подробность! — Боденор не был «красавцем мужчиной», как кое-кто из наших приятелей, которые делают ставку на свою красоту за неимением другого; но не стоит повторяться, мы уже решили, что это гнусно! Он метко стрелял из пистолета, ловко ездил верхом, дрался из-за какой-то безделицы на дуэли и не убил противника. Знаете ли вы, что выяснить, из чего состоит безоблачное, чистопробное и полное счастье в девятнадцатом веке в Париже, да притом еще счастье двадцатишестилетнего молодого человека, можно, лишь войдя во все мелочи его жизни? Сапожник сумел уловить форму ноги Боденора и удачно шил ему сапоги, портному нравилось одевать его. Годфруа не грассировал, он говорил не как гасконец или нормандец, а на чистом и правильном французском языке и отменно завязывал галстук — совсем как Фино. Кузен супруги маркиза д'Эглемона, своего опекуна (он был круглым сиротой — еще одно преимущество), Боденор мог бывать и бывал у банкиров, не навлекая на себя нареканий Сен-Жерменского предместья за то, что якшался с ними, ибо молодой человек, к счастью, вправе думать только о своих удовольствиях, спешить туда, где весело, и избегать мрачных закоулков, где царит печаль. Наконец, он был застрахован от кое-каких болезней (ты меня понимаешь, Блонде!). Но, несмотря на все эти преимущества, он мог бы чувствовать себя очень несчастным. О, счастье, к нашему несчастью, представляется чем-то абсолютным — видимость, побуждающая глупцов вопрошать: «Что есть счастье?» Одна очень умная женщина сказала: «Счастье в том, в чем мы его полагаем».
— Она изрекла прискорбную истину, — заявил Блонде.
— И нравоучительную! — прибавил Фино.
— Архинравоучительную! Счастье , как добродетель , как зло , — понятие относительное, — ответил Блонде. — Поэтому-то Лафонтен и считал, что с течением времени грешники в аду свыкнутся со своим положением и будут чувствовать себя там как рыба в воде.
— Изречения Лафонтена стали мудростью лавочников, — заметил Бисиу.
— Счастье двадцатишестилетнего парижанина — совсем не то, что счастье двадцатишестилетнего жителя Блуа, — сказал Блонде, не обратив внимания на слова Бисиу. — Те, кто на этом основании кричит о неустойчивости взглядов, — обманщики или невежды. Современная медицина, высшая заслуга которой состоит в том, что за время с 1799 по 1837 год она покинула область гаданий и сделалась под влиянием известной парижской аналитической школы наукой позитивной, доказала, что через известные периоды времени организм человека полностью обновляется.
— На манер ножика Жанно(действующее лицо старинной французской комедии; он наивно хвастался принадлежащим ему ножом, считая его неизменным, хотя у этого ножа сменили и лезвие, и черенок), хотя его все время считают прежним, — подхватил Бисиу. — Да, костюм арлекина, который именуется у нас счастьем, сшит из разных лоскутов, но на костюме моего Годфруа не было ни пятен, ни дыр. Молодой человек двадцати шести лет, если он счастлив в любви, то есть любим не за свою цветущую молодость, не за ум, не за внешность, даже не потому, что есть потребность в любви, но любим непреодолимой страстью, — хотя бы эта непреодолимая страсть и была, пользуясь выражением Ройе-Коллара, абстрактной, — этот молодой человек прекраснейшим образом может не иметь ни гроша в кошельке, вышитом рукой обожаемого существа, может задолжать домохозяину за квартиру, сапожнику за сапоги, за платье портному, который в конце концов, как Франция, охладеет к нему. Словом, он может быть беден! Но нищета отравляет счастье молодого человека, не обладающего, подобно нам, возвышенными взглядами на слияние интересов. Нет ничего утомительнее, по-моему, чем быть счастливым морально и очень несчастным материально, — вроде того, как я сейчас: одна нога у меня мерзнет, потому что дует из-под двери, а другая поджаривается у камина. Надеюсь, мои слова будут верно поняты; найдут ли они отклик под твоим жилетом, Блонде? Впрочем, оставим сердце в покое, между нами будь сказано, оно лишь вредит уму. Продолжаю! Годфруа де Боденор заслужил уважение своих поставщиков, так как платил им довольно аккуратно. Очень умная женщина, которую я уже упоминал и назвать которую не вполне удобно, ибо благодаря своему бессердечию она еще жива...
— Кто это?
— Маркиза д'Эспар! Она утверждала, что молодой человек должен жить на антресолях, не заводить ничего, напоминающего семейный очаг, — ни кухарки, ни кухни, пользоваться услугами старого слуги и не стремиться к прочно установленному порядку. Всякий другой образ жизни, по ее мнению, — дурной тон. Верный этой программе, Годфруа де Боденор жил на антресолях, на набережной Малакэ; ему, правда, не удалось избежать некоторого сходства с женатыми людьми: в комнате его стояла кровать, но она была столь узка, что он ею мало пользовался. Англичанка, случайно посетившая его жилище, не могла бы обнаружить там ничего неприличного . Фино, ты попросишь кого-нибудь растолковать тебе великий закон неприличного , правящий Англией! Но так как мы связаны с тобой тысячефранковой бумажкой, я вкратце объясню тебе это сам. Мне ведь довелось побывать в Англии! (На ухо Блонде: «Я отпускаю ему мудрости на две тысячи франков».) В Англии, Фино, ночью ты можешь близко познакомиться с женщиной, на балу или в другом месте; но если ты назавтра узнаешь ее на улице — неприлично! За обедом ты обнаруживаешь в своем соседе слева очаровательного человека — остроумие, непринужденность, никакого чванства — ничего английского; следуя правилам старинной французской учтивости, всегда приветливой и любезной, ты заговариваешь с ним — неприлично! На балу вы приглашаете прелестную женщину на вальс — неприлично! Вы горячитесь, спорите, смеетесь, расточаете свой ум, душу и сердце в беседе, выражаете в ней чувства; вы играете во время игры, беседуете, беседуя, едите за едой — неприлично! неприлично! неприлично! Один из самых проницательных и остроумных людей нашего времени — Стендаль прекрасно охарактеризовал это неприлично, рассказав о некоем британском лорде, который, сидя в одиночестве у своего камина, не решается заложить ногу за ногу из страха оказаться неприличным. Английская дама, даже из секты неистовствующих святош (протестантов-фанатиков, готовых уморить свою семью с голоду, если бы она оказалась неприличной ), не становится неприличной , беснуясь в своей спальной, но она сочтет себя погибшей, если примет в той же спальной знакомого. По милости этого неприлично Лондон и его обитатели в один прекрасный день обратятся в камень.
— Подумать только, что находятся глупцы, желающие ввезти к нам во Францию тот торжественный вздор, которым англичане со своей пресловутой невозмутимостью занимаются у себя на родине! — воскликнул Блонде. — При одной мысли об этом всякого, кто побывал в Англии и помнит очаровательную непосредственность французских нравов, бросает в дрожь. Недавно Вальтер Скотт, который не решался изображать женщин такими, как они есть, из страха оказаться неприличным , каялся в том, что нарисовал прекрасный образ Эффи в «Эдинбургской темнице» .
— Хочешь не быть неприличным в Англии? — спросил Бисиу у Фино.
— Ну, хочу, — ответил тот.
— Ступай в Тюильри, присмотрись там к мраморному пожарному, которого скульптор нарек почему-то Фемистоклом, старайся ступать, как статуя командора, и ты никогда не будешь неприличным. Именно благодаря неукоснительному применению великого закона неприличного Годфруа достиг полного счастья. Вот как это произошло. У него был «тигр», а не грум, как пишут люди, ничего не смыслящие в светской жизни. Его «тигр» был маленький ирландец по имени Пэдди, Джоби, Тоби (можете выбирать любое), трех футов ростом и двадцати дюймов в плечах, с мордочкой ласки, с проспиртованными джином стальными нервами, с глазами ящерицы, зоркими, как у меня; проворный, как белка, неизменно ловко правивший парой лошадей в Лондоне и в Париже и ездивший верхом, как старик Франкони; белокурый, точно девы на картинах Рубенса, с розовыми щеками, неискренний, как принц, опытный, как удалившийся от дел стряпчий, всего десяти лет от роду и при этом испорчен до мозга костей; сквернослов и игрок, обожавший варенье и пунш, ругавшийся, как фельетонист, вороватый и дерзкий, как парижский уличный мальчишка. Он был гордостью и доходной статьей известного английского лорда, для которого уже выиграл на скачках семьсот тысяч франков. Лорд очень любил малыша: его «тигр» был диковинкой, ни у кого в Лондоне не было такого маленького «тигра». На скаковой лошади Джоби походил на сокола. И все же лорд уволил Тоби — не за обжорство, не за кражу, не за убийство, не за предосудительные разговоры, не за дурные манеры, не за то, что он надерзил миледи, не за то, что он продырявил карманы ее камеристки, не за то, что он продался соперникам милорда на скачках, не за то, что он развлекался в воскресенье, — словом, ни за один из действительных проступков. Если бы Тоби во всем этом провинился, если бы он даже первым заговорил с милордом, — милорд простил бы ему и такое преступление. Милорд многое простил бы Тоби — так он дорожил им. Его «тигр» правил парой лошадей, запряженных цугом в двухколесный кабриолет, сидя верхом на второй из них, не доставая ногами до оглобель и напоминая одного из тех ангелочков, которыми итальянские художники окружают бога-отца. Один английский журналист превосходно описал этого ангелочка, но он нашел его слишком красивым для «тигра» и предлагал пари, что Пэдди — не тигр, а прирученная тигрица. Заметка могла быть истолкована в дурном смысле и стать в высшей степени неприличной. А неприлично в превосходной степени ведет к виселице. Миледи очень хвалила милорда за осмотрительность. Тоби нигде не мог найти себе службы после того, как было подвергнуто сомнению его место в британской зоологии. Годфруа в то время процветал во французском посольстве в Лондоне, где и узнал о происшествии с Тоби-Джоби-Пэдди. Годфруа завладел «тигром»: он застал его в слезах над банкой варенья; мальчуган уже растратил все гинеи, которыми милорд позолотил его горе. Возвратившись на родину, Годфруа де Боденор ввез во Францию прелестнейшего из английских «тигров» и приобрел известность благодаря своему «тигру», подобно тому как Кутюр прославился своими жилетами. И он без всяких затруднений был принят в члены клуба, именующегося ныне клубом де Граммон. Боденор отказался от дипломатической карьеры и не внушал больше тревоги честолюбцам; не отличаясь к тому же опасным складом ума, он встретил повсюду радушный прием. Наше самолюбие было бы уязвлено, если бы мы с вами видели вокруг себя одни лишь улыбки. Нам по сердцу кислая усмешка завистника. Годфруа же не любил быть предметом ненависти. Вкусы бывают разные!
Перейдем, однако, к существенному, к жизни материальной. Достопримечательностью его квартиры, где мне не раз случалось завтракать, была укромная туалетная комната, хорошо обставленная, со множеством удобнейших приспособлений, с камином и ванной; бесшумно закрывающаяся дверь вела на лестницу, не скрипела на петлях и легко отпиралась; на окнах с матовыми стеклами были непроницаемые шторы. И если комната Боденора должна была являть и являла собой самый живописный беспорядок, любезный сердцу взыскательного художника-акварелиста, если все в ней говорило о бесшабашной жизни элегантного молодого человека, то туалетная комната была словно святилище: белизна, чистота, порядок, тепло, из щелей не дует, ковер, как бы специально предназначенный для босых ножек застигнутой в одной сорочке испуганной красавицы. По таким признакам сразу определишь светского щеголя, знающего жизнь! Ибо тут в несколько мгновений он может проявить величие или глупость в тех житейских мелочах, в которых сказывается характер человека. Упомянутая уже маркиза, — впрочем, нет, то была маркиза де Рошфид, — покинула в бешенстве некую туалетную комнату и никогда больше туда не возвращалась, ибо не нашла там ничего неприличного . У Годфруа был там шкафчик, полный...
— Женских кофточек! — сказал Фино.
— Ах, ты толстяк Тюркаре! (Мне, видно, никогда его не обтесать!) Да нет же! Полный пирожных, фруктов, графинчиков с малагой и люнелем — словом, легкое угощенье в духе Людовика Четырнадцатого, все, что может порадовать изнеженные и разборчивые желудки наследниц шестнадцати поколений. Лукавый старик слуга, весьма сведущий в ветеринарном искусстве, прислуживал лошадям и ходил за Годфруа, так как он служил еще покойному господину Боденору и питал к молодому хозяину застарелую привязанность — сердечный недуг, от которого сберегательные кассы излечили в конце концов наших слуг. Всякое материальное счастье покоится на цифрах. Вы, знающие всю подноготную парижской жизни, догадываетесь, конечно, что Годфруа требовалось около семнадцати тысяч франков годового дохода, ибо семнадцать франков уходило у него на налоги и тысячи франков — на прихоти. Ну так вот, дети мои, в день, когда Годфруа проснулся совершеннолетним, маркиз д'Эглемон представил ему отчет по опеке — мы, конечно, не могли бы представить таких отчетов своим племянникам — и вручил ему квитанцию на восемнадцать тысяч франков государственной ренты — все, что осталось Боденору от отцовского богатства, ощипанного финансовыми реформами Республики и подорванного неаккуратными платежами Империи. Сей добродетельный опекун передал также своему питомцу около тридцати тысяч франков сбережений, помещенных в банкирском доме Нусингена, заявив ему с любезностью вельможи и непринужденностью солдата Империи, что сберег эти деньги для его юношеских проказ. «Если хочешь последовать моему совету, Годфруа, — прибавил он, — не сори глупо этими деньгами, как делают многие, а развлекайся с пользой. Стань атташе нашего посольства в Турине, оттуда направься в Неаполь, из Неаполя перекочуй в Лондон, — за свои деньги ты и позабавишься, и многому научишься. А позже, когда ты окончательно решишь избрать карьеру, твое время и деньги не будут потрачены впустую». Покойный д'Эглемон был лучше своей репутации, чего о нас не скажешь.
1 2 3 4 5 >>>далее
|
