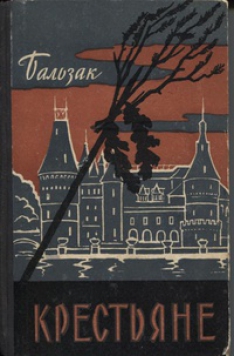
ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАК
КРЕСТЬЯНЕ
Господину П.-С.-Б. Гаво
(Сильвен Гаво — парижский адвокат, друг Бальзака, его советчик в денежных делах.)
Жан-Жак Руссо поставил в заголовке «Новой Элоизы» следующие слова: «Я наблюдал нравы моего времени и напечатал эти письма». Нельзя ли мне, в подражание великому писателю, сказать: «Я изучаю ход моей эпохи и печатаю настоящий труд»?
Задача этого исследования, страшная правда которого останется в силе до тех пор, пока общество будет возводить филантропию в принцип, вместо того чтобы считать ее преходящим явлением, — задача этого исследования — дать читателю выпуклые изображения главных персонажей крестьянского сословия, забытого столькими писателями в погоне за новыми сюжетами. В эпоху, когда народ получил в наследство от королевской власти всех ее придворных льстецов, такое забвение — может быть, просто осторожность. Мы поэтизировали преступников, мы умилялись палачами, и мы почти обоготворили пролетария! Многие секты пришли в великое волнение и кричат устами всей своей пишущей братии: «Вставай, рабочий народ!», как в свое время было сказано «Вставай!» третьему сословию. Ясно каждому, что ни один из этих Геростратов не имел мужества отправиться в деревенскую глушь, дабы изучить на месте непрерывные козни, которые строят те, кого мы до сих пор называем слабыми, против тех, кто почитает себя сильным, — крестьянина против богача... Мы хотим открыть глаза не сегодняшнему законодателю, нет, а тому, который завтра придет ему на смену. Не пора ли теперь, когда столько ослепленных писателей охвачено общим демократическим головокружением, изобразить наконец того крестьянина, который сделал невозможным применение законов, превратив собственность в нечто не то существующее, не то не существующее? Вы увидите, как эта неутомимая землеройка, как этот грызун дробит и кромсает землю, делит ее на части и разрезает арпан на сотню лоскутков, неизменно привлекаемый к этому пиршеству мелкой буржуазией, делающей из него одновременно и своего помощника, и свою добычу. Этот противообщественный элемент, созданный революцией, когда-нибудь поглотит буржуазию, как буржуазия в свое время пожрала дворянство. Пренебрегая в собственном своем ничтожестве законом, этот Робеспьер об одной голове и о двадцати миллионах рук непрерывно ведет свою работу, притаившись во всех сельских общинах, верша дела в муниципальных советах, опираясь во всех кантонах Франции на оружие национального гвардейца, врученное ему 1830 годом, позабывшим, что Наполеон предпочел ввериться своему несчастному року, чем вооружить народные массы.
Если я в течение восьми лет сто раз бросал эту книгу, самую значительную из всех задуманных мною, и сто раз снова принимался за нее, то ведь все мои друзья, и вы в том числе, конечно, поняли, что моя решимость могла поколебаться перед столькими трудностями и перед таким количеством мелочей, вплетенных в эту сугубо жестокую и кровавую драму. Но к числу причин, внушивших мне сегодня такую смелость, прибавьте и мое желание закончить этот труд, назначение которого — доказать вам мою горячую и неизменную признательность за преданную любовь, бывшую для меня великим утешением в несчастье.
Дe Бальзак.
Часть первая
КТО С ЗЕМЛЕЙ, ТОТ С ВОЙНОЙ
I
ЗАМОК
Господину Натану.
Эги, 6 августа, 1823 г.
«Дорогой Натан, тебя, чьи фантазии услаждают читающую публику очаровательными грезами, я намерен унести в царство грез описанием самой настоящей действительности. А потом скажи мне, будет ли когда-нибудь в состоянии наш век завещать подобные сны Натанам и Блонде 1923 года! Прикинь мысленно расстояние, отделяющее нас от тех времен, когда Флорины XVIII века находили при своем пробуждении купчую на замки, подобные Эгам.
Любезный друг, если письмо мое будет тебе доставлено утром, сможешь ли ты из своей постели разглядеть примерно в пятидесяти лье от Парижа, там, где начинается Бургундия, на почтовом тракте два небольших флигеля из красного кирпича, связанных или, если угодно, разделенных выкрашенным в зеленый цвет шлагбаумом?.. Именно сюда доставила почтовая карета твоего друга.
В обе стороны от этих флигелей бежит, извиваясь, живая изгородь, откуда, как непокорные локоны из прически, выбивается ежевика. То там, то здесь задорно торчат древесные побеги. Откосы рва поросли яркими цветами, корни которых купаются в стоячей подернутой зеленью воде. Справа и слева изгородь подходит к двум лесным опушкам, обрамляя парные лужайки, явно отвоеванные у леса.
От этих уединенных и покрытых пылью флигелей идет великолепная дорога, обсаженная вековыми вязами, развесистые кроны которых, склоняясь друг к другу, образуют длинный величественный свод. Аллея поросла травой; чуть приметен на ней двойной след, проложенный колесами экипажа. Древний возраст вязов, ширина двух боковых аллей для пешеходов, почтенный вид флигелей, потемневшие от времени каменные пилястры — все говорит нам о въезде чуть ли не в королевский замок.
Еще не доезжая до шлагбаума, с вершины холма, не без тщеславия величаемого у нас, французов, горой и возвышающегося над деревней Куш (последний перегон), я увидел продолговатую долину Эгов, в конце которой большая дорога сворачивает к супрефектуре Виль-о-Фэ, где царит племянник нашего приятеля де Люпо. Над этой плодородной долиной, окаймленной вдалеке горами миниатюрной Швейцарии, носящей название Морван, высятся громадные леса, которыми поросла широкая холмистая гряда, омываемая рекой. Эти густые леса принадлежат владельцам Эгов, маркизу де Ронкероль и графу де Суланж, чьи замки, парки и деревни — если смотреть на них издали и с высоты — напоминают фантастические пейзажи «бархатного» Брейгеля(фламандский художник, прозванный «бархатным» за мягкость колорита его картин.).
Ежели эти подробности не вызовут в твоей памяти всех воздушных замков, которыми ты хотел бы владеть на французской земле, то ты недостоин внимать рассказу остолбеневшего от изумления парижанина. Наконец-то я наслаждаюсь такой деревней, где искусство, присоединившись к природе, не испортило ее, где творение художника естественно, творение природы художественно. Я нашел тот оазис, о котором мы с тобой столько раз мечтали под впечатлением прочитанных романов; природа здесь роскошная, местность изрезана оврагами, во всем есть что-то дикое, неприлизанное, таинственное и необычное. Перелезай через шлагбаум, и отправимся дальше.
Когда я попытался окинуть любознательным взглядом всю аллею, куда солнце проникает лишь при восходе и на закате, пронизывая ее своими косыми лучами, мне загородил вид небольшой бугор; обогнув его, увидел я, что длинная аллея проходит через рощицу, и вот мы с тобой уже на перекрестке, в центре которого возвышается каменный обелиск словно для того, чтобы вечно восхищать наш взор. Между камнями монумента, увенчанного шаром с шипами (что за причуда!), растут цветы, красные или желтые — в зависимости от времени года. Несомненно, Эги были построены женщиной или для женщины: мужчине не придут в голову такие кокетливые причуды, и архитектор, надо думать, получил соответствующие указания.
Пройдя лесок, выдвинутый сюда словно сторожевой пост, я достиг прелестной лощины с бурлящим по ее дну ручьем, через который я перешел по горбатому мостику из замшелых камней бесподобной окраски, словно время задалось целью создать очаровательную мозаику. Аллея тянется вверх по течению ручья, отлого поднимаясь вдоль берега. Вдали открывается первая панорама: мельница с запрудой, насыпная дорога, обсаженная деревьями, утки, развешанное белье, дом с соломенной кровлей, сети и рыбный садок, и тут же, конечно, мальчишка — помощник мельника, уже пристально уставившийся на мою особу. В деревне, где бы вы ни находились, даже когда вы уверены в полном своем одиночестве, за вами всегда наблюдает из-под холщового колпака пара любопытных глаз: работник бросает мотыгу, виноградарь выпрямляет согнутую спину, девочка, пасущая коз, овец или коров, взбирается на иву и подсматривает за вами.
Широкая дорога вскоре превращается в обсаженную акациями аллею, которая ведет к кованым воротам, поставленным еще в ту эпоху, когда произведения слесарного искусства отличались воздушной филигранностью и своими узорами сильно напоминали завитушки из прописи учителя каллиграфии. По обе стороны ворот тянется ров с двойным валом, усаженным воистину грозными копьями и дротиками, словно перед тобой какой-то железный еж. Кроме того, к воротам примыкают две сторожки, очень похожие на такие же домики в Версале и так же увенчанные вазами огромных размеров. Позолота на арабесках порыжела от времени, ржавчина наложила на нее свои тона, что, на мой взгляд, только придает прелести этим «въездным» воротам, которыми Эги обязаны щедрости дофина. Вслед за рвами идет ограда, неоштукатуренные стены которой сложены из красноватой глины и камней самой причудливой формы и самой разнообразной окраски: тут и ярко-желтый кремень, и белый известняк, и красно-бурый песчаник. Вначале парк, полвека не оглашавшийся стуком топора, кажется мрачным, ограда скрыта вьющейся зеленью и ветвями деревьев. Можно подумать, что этот лес каким-то чудом, свойственным только лесам, вновь обрел свою девственность. Стволы увиты ползучими растениями, перекинувшимися с дерева на дерево. Блестящая листва омелы свешивается со всех развилин сучьев, где задержалась хоть капля влаги. Я снова увидел здесь сплетенные в причудливые узоры гигантские гирлянды плюща, встречающиеся не ближе пятидесяти лье от Парижа — там, где земля стоит очень дешево и ее не жалеют. Для такого пейзажа нужен простор. Итак, здесь ничто не приглажено, здесь не видно следа садовых грабель, рытвины полны водой, и лягушки мирно выводят в них своих головастиков; нежные лесные цветочки растут на лужайках, а вереск здесь не менее красив, чем тот, которым я любовался у тебя на камине, в нарядной жардиньерке, принесенной Флориной. Тайна леса пьянит, вызывает смутные желания. Лесные ароматы, столь любезные лакомым до поэтических настроений душам, которым милы и безвредный мох, и ядовитые тайнобрачные, и влажная низинка, и плакучая ива, и цветочек мяты, и богородицына травка, и затянутая ряской лужа, и округлые звезды кувшинок, — все эти мощные лесные ароматы вливали в меня свою благодать, свою мысль, свою душу. И я представил себе розовое платье, мелькающее под деревьями извилистой аллеи.
Аллею неожиданно преграждает последняя рощица, объединившая в одну разумную, стройную, изящную семью дрожащие березки и тополя и все прочие трепещущие деревья, деревья свободной любви! Отсюда, дорогой мой друг, я увидел пруд, покрытый лилиями и прочими водяными растениями с широкими распластанными листьями или узенькими тонкими листочками, а на пруду — заброшенный челнок, выкрашенный в черный и белый цвет, челнок, кокетливый, как лодки на Сене, и легкий, как ореховая скорлупка. За прудом возвышается замок, датированный 1560 годом, построенный из кирпича приятного красного цвета с каменной связью и обрамлениями по углам и на окнах, еще сохранивших свои частый переплет (о, Версаль!). Каменные части вытесаны алмазной гранью, как у Дворца Дожей в Венеции, по его фасаду, выходящему к мосту Вздохов. В замке строго выдержан в едином стиле только центральный корпус с величественным каменным крыльцом, куда с двух сторон ведет изогнутая лестница с выточенными балясинами на перилах, тонкими у основания и бочкообразными посередине. К главному корпусу примыкают башенки с островерхой свинцовой кровлей, украшенной травяным орнаментом, и два флигеля в современном вкусе с галереями и вазами в более или менее греческом стиле. Тут, любезный друг, симметрии не ищи! Над этими как бы случайно собранными здесь постройками нависла зеленая сень, от чего пышней разрастается мох на кровле, а побуревшие семена, осыпаясь с деревьев на крышу, порождают жизнь в глубоких живописных трещинах. Тут и итальянская пиния с красной корой, шатром раскинувшая свои ветви, тут и двухсотлетний кедр, и плакучие ивы, и северная ель, и значительно переросший ее бук. Перед главной башенкой совсем неожиданные деревья: подстриженный тис, вызывающий в памяти запущенный французский парк, магнолии, окруженные кустами гортензий, — словом, Пантеон, где покоятся герои садоводства, когда-то бывшие в моде, а теперь забытые, как и все герои.
Увидев на крыше трубу с оригинальным орнаментом, из которой шли густые клубы дыма, я убедился, что вся эта прелестная картина — не оперная декорация. Раз есть кухня, значит, есть и живые люди. Представляешь ли ты меня, твоего друга Блонде, которому достаточно попасть в Сен-Клу (дворец и парк близ Парижа, резиденция Наполеона I.), чтобы возомнить себя за полярным кругом, — представляешь ли ты меня среди этого знойного бургундского пейзажа? Солнце немилосердно печет, зимородок сидит у берега пруда, кузнечики стрекочут, сверчок свиристит, стручки каких-то бобовых растений лопаются с сухим треском, маки изливают густыми слезами свое снотворное зелье, и все так отчетливо вырисовывается на фоне ярко-голубого неба. Над красноватой землей площадки трепещет веселое марево той натуральной жженки, которая пьянит и насекомых и цветы, обжигает нам глаза и покрывает загаром лица. Виноград наливается, листва его, подернутая паутиной белых нитей, посрамит тонкостью своего узора любую кружевную фабрику. А вдоль всего здания пестреют ярко-голубые цветы кавалерских шпор, огненная настурция и душистый горошек. Воздух напоен благоуханием тубероз и цветущих апельсиновых деревьев. Подготовленный поэтическими душистыми испарениями леса, я наслаждался теперь пряными курениями этого ботанического сераля. В заключение представь себе на верхней ступени крыльца женщину в белом платье, подобную царице цветов, — без шляпы, под зонтиком, подбитым белым шелком, женщину, более белоснежную, чем этот шелк, более белоснежную, чем лилии, что цветут у ее ног, более белоснежную, чем звездочки жасмина, дерзко пробравшегося меж балясин, — француженку, родившуюся в России; она встретила меня словами: «Я потеряла всякую надежду вас увидеть!» Она заметила меня еще на повороте дороги. С каким совершенством всякая женщина, даже самая бесхитростная, разыгрывает свою роль! По шуму, доносившемуся из столовой, где прислуга накрывала на стол, ясно было, что завтрак отложили до прибытия почтовой кареты. Хозяйка не решилась выйти мне навстречу.
Не в этом ли воплощение нашей мечты, мечты тех, кто боготворит красоту во всех ее видах: и ангельскую красоту, которую Луини вложил в свое «Благовещение» — замечательную Саронскую фреску, и красоту, которую Рубенс нашел для схватки, изображенной на картине «Битва при Термондоне», и красоту, над которой трудились пять веков в севильском и миланском соборах, и сарацинскую красоту в Гренаде, и красоту парков Людовика XIV в Версале, и красоту Альп, и красоту плодоносной Оверни.
К этому поместью, где не чувствуется ни чрезмерной царственности, ни чрезмерного богатства, хотя и принц королевской крови, и генеральный откупщик имели тут свое местопребывание (а это и определяет основной его характер), принадлежат две тысячи гектаров леса, парк в девятьсот арпанов, мельница, три хутора, громадная ферма в Куше и виноградники — все вместе взятое должно давать семьдесят две тысячи франков ежегодного дохода. Таковы, мой дорогой, Эги, где меня ожидали в течение двух лет и где я в данный момент нахожусь в «персидской» комнате, предназначенной для близких друзей.
Из верхней части парка, расположенной ближе к Кушу, течет не менее дюжины чистых, прозрачных родников, берущих свое начало в Морване и впадающих в пруд, предварительно разукрасив серебристыми струящимися лентами и лощинки в парке, и великолепные цветники. Своим названием Эги обязаны этим очаровательным водным потокам. В нем только отброшено слово «ключевые», так как в старых документах поместье именуется «Ключевые воды» в отличие от «Стоячих вод». Из пруда лишняя вода до широкому прямому каналу, окаймленному плакучими ивами, попадает в речушку, текущую вдоль главной аллеи. Канал восхитителен в своем зеленом убранстве. Когда плывешь по нему в лодке, кажется, будто ты под сводом грандиозного храма, а главный корпус замка, виднеющийся в конце свода, — амвон. При заходе солнца, когда на замок падают оранжевые, пересеченные тенями лучи и горят в оконных стеклах, представляется, будто перед тобой пылающие яркими красками витражи. На другом конце канала виднеется село Бланжи, насчитывающее около шестидесяти дворов. Тут же и сельская церковь — давно не ремонтировавшийся домик с деревянной колокольней и полуобвалившейся черепичной кровлей. Среди прочих построек выделяется одна городского типа и дом священника. Приход, в общем, не маленький: к нему принадлежит еще двести разбросанных поблизости дворов, для которых Бланжи — административный центр. Вокруг селения разбиты небольшие огороды; проезжие дороги отмечены рядами плодовых деревьев. В огородах, как всегда в крестьянских огородах, есть все, что угодно: и цветы, и лук, и капуста, и шпалерный виноград, и смородина, и много навоза. Селение кажется таким патриархальным, таким мирным уголком, и в нем есть та нарядная простота, которой так добиваются живописцы. А вдали виднеется Суланж, городок на берегу большого пруда вроде тех, что стоят на Тунском озере.
Когда прогуливаешься по парку, в котором имеется четверо прекрасных по стилю ворот, мифологическая Аркадия (область Древней Греции; в литературе Аркадия — место действия идиллий, изображающих счастливую, мирную сельскую жизнь.) кажется плоской, как наша Босская равнина. Истинная Аркадия — в Бургундии, а не в Греции, истинная Аркадия — в Эгах, и нигде больше. Речка, питающаяся ручьями, течет, змеясь, по нижнему парку и придает ему какую-то успокоительную свежесть, какую-то своеобразную уединенность, тем более напоминающую тихую монастырскую обитель, что на одном из искусствено созданных островков в самом деле стоит полуразрушенный домик монастырского вида, по изяществу своей внутренней отделки вполне достойный того сластолюбивого денежного магната, по приказу которого он был возведен. Эги, любезный друг, когда-то принадлежали тому самому откупщику Буре, который истратил два миллиона на то, чтобы один-единственный раз принять у себя Людовика XV. Сколько кипучих страстей, тонкости ума, сколько счастливых стечений обстоятельств потребовалось, чтобы создать этот прекрасный уголок! Одна из возлюбленных Генриха IV перенесла замок на то место, где он стоит сейчас, и присоединила к нему лес. Фаворитка дофина, мадмуазель Шоэн, получившая Эги в подарок, обогатила их несколькими фермами. Буре ради некой оперной дивы обставил замок с изысканностью, не уступающей парижским дворцам. Тому же Буре Эги обязаны реставрацией нижнего этажа в стиле Людовика XV.
Я был совершенно изумлен при виде столовой. Прежде всего привлекает взоры потолок, расписанный в итальянском вкусе и украшенный необыкновенно затейливыми арабесками. Лепные женские фигуры, как бы вырастающие из листвы и расположенные на некотором расстоянии друг от друга, поддерживают корзины с фруктами, откуда расходится по потолку богатый лиственный орнамент. В простенках между гипсовыми женщинами — прекрасные картины кисти неизвестных мне живописцев изображают все, чем славится изысканный стол: лососей, кабаньи головы, устриц — целый мир съедобного, представителям которого художники придали какое-то фантастической сходство с мужчинами, женщинами и детьми, не уступая по причудливости воображения художникам Китая — страны, где, на мой взгляд, лучше всего понимают декоративное искусство. Под ногой у хозяйки дома находится пружина от звонка для вызова прислуги, которая является лишь тогда, когда она нужна, не прерывает разговора, не нарушает настроения. Над дверьми изображены сцены эротического содержания. Оконные амбразуры мраморные, мозаичной работы. Столовая отапливается снизу. Из каждого окна прелестный вид.
С одной стороны столовой находится ванная, а с другой — будуар, смежный с гостиной. Стены ванной комнаты выложены севрскими плитками с гризайлью (способ декоративной живописи, использующей две краски — светлую и темную. Гризайль создает впечатление рельефности.), пол мозаичный, а ванна мраморная. В алькове, замаскированном картиной, написанной на меди и поднимающейся при помощи противовеса, стоит кушетка золоченого дерева в чистейшем стиле Помпадур. Потолок выложен ляпис-лазурью и усеян золотыми звездами. Роспись гризайлью сделана по рисункам Буше. Итак, здесь объединены омовение, яства и любовь.
За гостиной, представляющей стиль Людовика XIV во всем его великолепии, идет роскошная бильярдная, равной которой, по-моему, нет и в Париже. В нижний этаж входишь через полукруглую переднюю, в глубине которой расположена изящная лестница с верхним светом, — она соединяет покои, выстроенные в различные эпохи. А в 1793 году, мой дорогой, генеральным откупщикам рубили головы! Боже мой, как люди не поймут, что чудеса искусства невозможны в стране, где нет больших состояний и обеспеченной жизни на широкую ногу. Если «левая» непременно желает казнить королей, пусть она оставит нам хоть несколько самых что ни на есть малюсеньких принцев.
В настоящее время вся эта уйма богатств принадлежит хорошенькой женщине с тонким художественным вкусом, которая, не довольствуясь тем, что великолепно реставрировала здешние сокровища, продолжает любовно их оберегать. Так называемые философы, которые заняты только собой, делая вид, будто заняты судьбами человечества, называют все эти прекрасные вещи сумасбродством. Они обмирают перед фабриками миткаля и разными скучными изобретениями современной промышленной техники, а ведь мы сейчас не стали ни более великими, ни более счастливыми, чем во времена Генриха IV, Людовика XIV и Людовика XV, которые наложили отпечаток своего царствования на Эги. Какие дворцы, какие королевские замки, какие жилые дома, какие произведения искусства, какие шитые золотом ткани оставим после себя мы? Роброны наших бабушек теперь в большой цене: их скупают на обивку кресел. Мы — скаредные эгоисты, мы пользуемся процентами с чужого капитала, мы сносим все и сажаем капусту там, где возвышались чудесные произведения зодчества. Совсем еще недавно соха прошлась по Персану, великолепному поместью, в свое время опустошившему кошелек канцлера Мопу; пал под ударами молотка замок Монморанси, стоивший безумных денег одному из тех итальянцев, что толпились вокруг Наполеона; разрушен Валь, создание Реньо де Сен-Жан д'Анжели; разрушен Кассан, построенный одной из любовниц принца Конти; в итоге четыре королевских дворца исчезли с лица земли в одной только долине Уазы. Мы готовим Парижу окрестности Рима к тому дню, когда налетевший с севера ураган разрушит наши гипсовые замки и все наше картонное великолепие.
Видишь, любезный друг, до чего может довести человека привычка к газетной болтовне, — вот я уже настрочил нечто вроде передовой статьи! Неужели у нашего ума, как у проселочных дорог, есть своя проторенная колея? Умолкаю, ибо явно обворовываю и свою владычицу, и самого себя, а на тебя боюсь нагнать зевоту. Продолжение завтра.
Второй раз звонит колокол, оповещая об изобильном завтраке, какими уже давно не кормят в парижских домах, не считая, разумеется, исключительных случаев.
Вот история моей Аркадии. В 1815 году умерла в Эгах одна из знаменитых куртизанок последнего века, певица, забытая и гильотиной, и аристократией, и литературным, и финансовым миром, хотя она была близка и к финансовому, и к литературному, и к аристократическому миру и чуть было не познакомилась с гильотиной; о ней забыли, как о многих былых прелестницах, уехавших в деревню искупать грехи своей молодости и заменивших утраченную любовь обожателей новой любовью: мужчину — природой. Эти женщины живут цветами, ароматами лесов, небом, солнечными эффектами — всем, что поет, трепещет, сверкает и растет: птичками, ящерицами, цветочками и травками; сами того не сознавая, не отдавая себе в том отчета, они все еще живут любовью столь пламенной, что ради этой сельской услады забывают герцогов, маршалов, соперниц, откупщиков налогов, свои былые безумства и необузданную роскошь, свои поддельные и настоящие бриллианты, свои туфельки на высоких каблуках и румяна.
Я собрал, дорогой друг, ряд драгоценных сведений о старческих годах мадмуазель Лагер, ибо время от времени меня начинает занимать старость девиц, подобных Флорине, Мариетте, Сюзанне дю Валь-Нобль и Туллии, совершенно так же, как ребенка занимает, куда же в конце концов девалась старая луна.
В 1790 году мадмуазель Лагер, напуганная ходом политических событий, удалилась в Эги, купленные для нее откупщиком Буре, который провел в замке несколько летних сезонов; судьба Дюбарри так ее потрясла, что она закопала в землю свои бриллианты. Ей минуло тогда всего пятьдесят три года, и, по словам ее горничной (вышедшей впоследствии замуж за жандарма и с тех пор величаемой не иначе, как «мадам Судри» или «супруга мэра»), «барыня была в ту пору еще красивей, чем раньше». Очевидно, любезный друг, такие создания — баловни природы, которая, должно быть, имеет на то свои основания: от излишеств они не только не болеют, а, наоборот, хорошеют, приобретают приятную полноту и моложавость. Правда, у них субтильная фигурка, зато крепкие нервы, которые поддерживают их чудесное тело; они сохраняют вечную красоту при той жизни, от какой наверняка подурнеет добродетельная женщина. Что ни говори, провидение не отличается высокой нравственностью.
Мадмуазель Лагер жила здесь, как самая безупречная женщина, может быть, лучше сказать, как святая, — памятуя о ее нашумевшем приключении. Однажды, пережив разочарование в любви, она, как была в театральном костюме, убежала из Большой оперы куда-то за город, уселась у дороги в поле и проплакала там всю ночь. (А ведь чего только не наклеветали на любовь во времена Людовика XV!) Для нее было так необычно встречать восход солнца, что она приветствовала дневное светило одной из своих лучших арий. Ее поза, а также блестящий наряд привлекли внимание крестьян: изумленные ее жестами, голосом и красотой, они решили, что перед ними ангел, и преклонили колени. Не будь Вольтера, под Баньоле совершилось бы еще одно чудо. Не знаю, зачтет ли господь бог девице Лагер ее запоздалую добродетель, поскольку женщины, столь пресыщенные любовью, как, надо полагать, была пресыщена ею оперная дива, обычно питают отвращение к любви. Мадмуазель Лагер родилась в 1740 году, лучшая ее пора относится к 1760 году, когда некоего господина де... (не припомню фамилии), намекая на его связь с этой покорительницей сердец, называли «любителем лагер ной жизни». Она распрощалась с фамилией Лагер, которая так и осталась неизвестной в этом краю, стала именовать себя госпожой дез Эг и замкнулась в своем поместье, любовно поддерживая его в самом художественном вкусе. Когда Бонапарт сделался первым консулом, она округлила свои владения, присоединив к ним церковные земли, на покупку которых пошли деньги, вырученные от продажи бриллиантов. Как и всякой оперной диве, ей было несвойственно распоряжаться имением, и потому она передала в ведение управляющего все хозяйство, а сама занялась только парком, цветником и фруктовым садом.
После смерти мадмуазель Лагер, которую похоронили в Бланжи, нотариус из Суланжа, кантонального центра, расположенного между Виль-о-Фэ и Бланжи, составил подробную опись имущества и в конце концов разыскал наследников певицы, не ведавшей об их существовании. Одиннадцать семейств бедных землепашцев из окрестностей Амьена легли спать на рваных простынях, а проснулись в одно прекрасное утро под золотым одеялом. Для раздела наследства пришлось продать имение с торгов. Эги были тогда куплены генералом Монкорне, за время своего командования в Испании и Померании накопившим сумму, необходимую для этой покупки, — что-то вроде миллиона ста тысяч франков, включая и стоимость обстановки. Этому прекрасному поместью, очевидно, было суждено принадлежать военному. На генерала, без сомнения, оказала воздействие чувственная роскошь покоев нижнего этажа, и я еще вчера уверял графиню, что покупка этого поместья решила ее брак.
Дорогой мой, чтобы по достоинству оценить графиню, надо знать, что генерал — человек вспыльчивый, с багровым лицом, пяти футов и девяти дюймов роста, монументальный, как башня, с толстой шеей, с плечами молотобойца, на которых кирасирские латы сидели, наверное, как влитые. Монкорне командовал кирасирами в битве при Эслинге (австрийцы называют этот город Гросс-Асперн) и остался цел, когда наша прекрасная конница была отброшена к Дунаю. Ему удалось переправиться через реку, сидя верхом на огромном бревне. Увидя, что мост разрушен, кирасиры по призыву Монкорне приняли доблестное решение: они обернулись лицом к врагу и сражались против всей австрийской армии, которая на следующий день вывезла более тридцати повозок, нагруженных латами. Немцы прозвали этих кирасиров «железные люди». У Монкорне внешность античного героя: руки большие и жилистые, грудь широкая, колесом, в голове что-то львиное, голос зычный — из тех, команда которых слышна в самый разгар сражения; но храбрость его — это храбрость сангвиника, ему недостает ума и широты кругозора. Как многие генералы, которым здравый смысл военных, недоверчивость, вполне естественная у людей, постоянно подвергающихся опасностям, и привычка командовать придают видимость превосходства, Монкорне производит на первый взгляд внушительное впечатление: он кажется титаном, но этот грозный облик скрывает карлика, как тот картонный великан, что кланялся Елизавете при входе в Кенильвортский замок. Он вспыльчив и добр, гордится воспоминаниями об Империи, но по-солдатски насмешлив, несдержан на язык и еще более несдержан на руку. На поле брани он, несомненно, великолепен, зато в семейной жизни совершенно невыносим — ему знакома только походная любовь, любовь солдатская, которой древние, сии искусные сочинители мифов, дали в покровители сына Марса и Венеры — Эроса. Эти превосходные летописцы истории богов запаслись целым десятком различных Амуров. Взявшись за изучение отцов и атрибутов этих Амуров, вы обнаружите самую полную роспись общественных слоев; а мы-то думали, что изобрели нечто новое! Когда земной шар перевернется, как больной в бреду, когда моря обратятся в материки, тогда французы найдут на дне нашего современного океана, в лесу водорослей, паровую машину, пушку, газету и конституционную хартию.
Ну, а графиня де Монкорне, мой дорогой, — женщина хрупкая, изящная и робкая. Что скажешь ты об этой супружеской паре? Для человека, знакомого со светом, такие случайности дело обычное, исключение составляют подходящие браки. Вот мне и захотелось посмотреть, на какие пружинки нажимает эта маленькая и слабенькая женщина, которая командует своим рослым, дородным и широкоплечим генералом ничуть не хуже, чем он командовал кирасирами.
Если Монкорне возвысит голос в присутствии своей Виржини, супруга его прикладывает пальчик к губам, и генерал тотчас же умолкает. Он грубый солдат, но если ему захочется выкурить сигару или трубку, он уходит в беседку шагов за пятьдесят и, возвращаясь оттуда, не забывает опрыснуть себя духами. Он счастлив своей покорностью, и, что бы вы ему ни предложили, этот медведь, опьяневший от винограда, неизменно оборачивается к супруге и говорит: «Если вы, мой друг, не имеете ничего против». Когда он направляется на половину жены, тяжело ступая по каменным плитам и сотрясая их, как простые доски, а она кричит испуганным голоском: «Ко мне нельзя!», он по-военному делает полуоборот направо и смиренно произносит: «Благоволите поставить меня в известность, когда вам угодно будет побеседовать со мной...» — тем же голосом, каким на берегах Дуная кричал своим кирасирам: «Солдаты, умрем, и умрем с честью, раз нет другого выхода!» Как-то, говоря о жене, он сказал следующие трогательные слова: «Я ее не только люблю, я преклоняюсь перед ней». Когда на него находит припадок ярости, которая ломает все преграды и изливается безудержным потоком, маленькая женщина удаляется в свои апартаменты, предоставляя ему вволю накричаться. А дней через пять, через шесть она говорит: «Не выходите, мой друг, из себя, у вас в груди может лопнуть сосуд, не говоря уже о том, как это мне неприятно». И тогда Эслингский лев поспешно скрывается, чтобы смахнуть набежавшую слезу. Если он появляется в гостиной, когда мы заняты разговором, она говорит: «Оставьте нас, он мне читает», и генерал оставляет нас одних.
Только сильные, крупные и вспыльчивые люди, только воины-громовержцы, только дипломаты с головой олимпийцев и гениальные люди умеют так безоговорочно верить и проявлять такую постоянную заботу, такое великодушие, такую любовь без примеси ревности, такую мягкость по отношению к женщине. Честное слово, я ставлю искусство графини настолько же выше сухих и сварливых добродетелей, насколько атласная обивка кушетки предпочтительнее бумажного плюша на дрянном мещанском диване.
Вот уже шестой день, любезный друг, как я нахожусь в этом восхитительном деревенском уголке и непрестанно восхищаюсь красотами парка, окруженного тенистыми лесами, и хорошенькими его дорожками, бегущими вдоль ручьев. Тишина, покой, мирные наслаждения, беззаботная жизнь, к которой зовет природа, — все тут прельщает меня. Вот где настоящая литература! Зеленеющий луг не знает стилистических промахов. Было бы истинным счастьем позабыть здесь все — даже «Деба» (сокращенное название французской газеты «Журналь де Деба». При Реставрации газета поддерживала умеренно-либеральную оппозицию.). Ты должен догадаться, что два утра подряд шел дождь. Пока графиня спала, а Монкорне охотился в своих владениях, я выполнил столь неосмотрительно данное обещание написать вам письмо.
До сего времени, хотя я и родился в Алансоне, как говорят, от старого судьи и префекта, хотя я и видал прекрасные пастбища, я принимал за пустые россказни существование поместий, приносящих четыре или пять тысяч франков дохода в месяц. Деньги в моем представлении означали четыре отвратительных слова: работа, издатель, газета и политика... Неужели в нашем распоряжении никогда не окажется поместья, где деньги будут произрастать на фоне какого-нибудь очаровательного ландшафта? Вот чего я желаю вам во имя театра, книги и печати. Да будет так.
Воображаю, какую зависть почувствует Флорина к покойной мадмуазель Лагер! У наших современных Буре нет перед глазами французского дворянства, которое обучало бы их умению жить, они втроем покупают ложу в театр, вскладчину устраивают развлечения, они не обрежут великолепно переплетенных ин-кварто, чтобы подогнать их по размерам к ин-октаво, которые стоят в их книжном шкафу. И непереплетенных-то книг они почти не покупают! Куда мы идем? Прощайте, дети мои! Любите по-прежнему вашего нежного друга Блонде».
Если бы по чудесной случайности не сохранились в целости строки этого письма, слетевшие с ленивейшего пера нашего времени, было бы почти невозможно изобразить Эги. Без данного описания разыгравшаяся там вдвойне ужасная драма, быть может, оказалась бы менее интересной.
Многие, верно, рассчитывают, что под яркими лучами света засверкают латы бывшего полковника императорской гвардии, что вспыхнувший в нем гнев обрушится ураганом на хрупкую женщину, и что повесть эта окончится тем же, чем кончается столько современных романов, то есть альковной драмой. Но разве может такая современная драма разыграться в прелестной гостиной, где голубоватая роспись над дверьми изображает любовные мифологические сценки, где потолок и внутренние ставни разрисованы сказочными птицами, а на камине хохочут во весь рот чудовища из китайского фарфора, где синие с золотом драконы обвивают своими закрученными хвостами богатейшие вазы с узорчатым, как кружево, цветным эмалевым бордюром — плод фантазии японского художника; где покойные глубокие кресла, кушетки, диваны, этажерки и столики манят к созерцанию и лени, ослабляют энергию? Нет, наша драма выходит из рамок обычной частной жизни, — она развивается или выше, или ниже ее. Не ждите бурных страстей, сама действительность будет достаточно драматична. К тому же писатель не должен никогда забывать, что его обязанность — воздать каждому должное, и бедняк и богач равны для его пера: крестьянин в его глазах велик своею тяжелою жизнью, а богач ничтожен своими смешными притязаниями; богач удовлетворяет свои страсти, крестьянин удовлетворяет только свои насущные нужды, следовательно, он беден вдвойне; и если по соображениям политики его агрессивные действия следует безжалостно пресекать, то с точки зрения религии и человечности крестьянин для нас свят.
1 2 3 . . . 26 >>>далее
|
