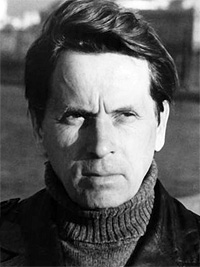 ФЕДОР АБРАМОВ ФЕДОР АБРАМОВ
ПЕЛАГЕЯ
Утром со свежими силами Пелагея легко брала полутораверстовый путь от дома до пекарни. По лугу бежала босиком, как бы играючи, полоща ноги в холодной травятной росе. Сонную, румяную реку раздвигала осиновой долбленкой, как утюгом. И по песчаной косе тоже шла ходко, почти не замечая ее вязкой, засасывающей зыби.
А вечером – нет. Вечером, после целого дня возня у раскаленной печи, одна мысль о возвратной дороге приводила ее в ужас.
Особенно тяжело давалась ей песчаная коса, которая начинается сразу же под угором, внизу у пекарни. Жара – зноем пышет каждая накалившаяся за день песчинка.
Оводы-красики беснуются – будто со всего света слетаются они в этот вечерний час сюда, на песчаный берег, где еще держится солнце. И вдобавок ноша – в одной руке сумка с хлебом, другую руку ведро с помоями роет.
И каждый раз, бредя этим желтым адищем – иначе не назовешь, – Пелагея говорила себе: надо брать помощницу. Надо. Сколько ей еще мучиться? Уж не такие это деньги большие – двадцать рублей, которые ей приплачивают за то, что она ломит за двоих-за троих…
Но так говорила она до той поры, пока пересохшими губами не припадала к речной воде. А утолив жажду и сполоснув лицо, она начинала уже более спокойно думать о помощнице. А на той стороне, на домашней, где горой заслоняет солнце и где даже ветерком слегка потягивает, к ней и вовсе возвращался здравый смысл.
Неплохо, неплохо иметь помощницу, рассуждала Пелагея, шагая по плотной, уже слегка отпотевшей тропинке вдоль пахучего ржаного поля. Худо ли – все пополам: и дрова, и вода. И тесто месить – не надо одной руки выворачивать. Да ведь будет помощница – будет и глаз.
А будет глаз – и помои пожиже будут. Не пабахтаешь в ведро теста – поопасешься. А раз не набахтаешь, и борова на семь пудов не выкормишь. Вот ведь она, помощница-то, каким боком выйдет. И поневоле тут поразмыслишь да пораскинешь умом…
У мостков за лыву – грязную осотистую озерину, в которой, отфыркиваясь, по колено бродила пегая кобыла с жеребенком, – Пелагея остановилась передохнуть. Тут всегда она отдыхает – и летом, и зимой, с сорок седьмого.
С той самой поры, как встала на пекарню. Потому что деревенская гора немалая – без отдыха не осилить.
На всякий случай ведро с помоями она прикрыла белым ситцевым платком, который сняла с головы, поправила волосы – жиденькую бесцветную кудельку, собранную сзади в короткий хвостик (нельзя ей показываться растрепой на люди – девья матерь), – затем по привычке подняла глаза к черемухову кусту на горе – там, возле старой, прокоптелой бани, каждый вечер поджидает ее Павел.
Было время, и недавно еще, – не на горе, у реки встречал ее муж. А осенью, в самую темень, выходил с фонарем. Ставь, жена, ногу смело. Не упадешь. А уж по дому своему – надо правду говорить – она не знала забот.
И утром печь истопит, и корову обрядит, и воды наносит, а ежели минутка свободная выпадет, и на пекарню прибежит: на неделю-на две дров наготовит. А теперь Павел болен, с весны за сердце рукой хватается, и все – и дом, и пекарня, – все на ней одной. Глаза у Пелагеи были острые – кажется, это единственное, что не выгорело у печи, – и она сразу увидела: пусто возле куста, нету Павла.
Она охнула. Что с Павлом? Где Алька? Не беда ли какая стряслась дома?
И, позабыв про отдых, про усталость, она схватила с земли ведро с помоями, схватила сумку с хлебом и зонко-звонко зашлепала по воде шатучими жердинами, перекинутыми за лыву.
Павел, в белых полотняных подштанниках, в мягких валяных бурках, в стеганой безрукавке с ее плеча, – она терпеть не могла этого стариковского вида! – сидел на кровати и, по всему видать, только что проснулся: лицо потное, бледное, мокрые волосы на голове скатались в косицы…
– На, господи, не вылежался! – выпалила она прямо с порога. – Мало ночи да дня – уже и вечера прихватываешь.
– Нездоровится мне ноне, – виновато потупился Павел.
– Да уж как ни нездоровится, а до угори-то, думаю, мог бы дойти. И сено, – Пелагея кивнула в сторону окошка за передком никелированной кровати, – срам людей с утра валяется. Для того я вставала ни свет ни заря? Сам не можешь – дочь есть, а то бы и сестрицу дорогую кликнул. Не велика барыня!
– День ангела у Онисьи сегодня.
– Большой праздник! Отпали бы руки, ежели бы брату родному пособила.
Хлопая пыльными, все еще не остывшими сапогами, которые плотнее обычного сидели на затекшей ноге, Пелагея оглянула комнату – просторную, чистую, со светлым крашеным полом, с белыми тюлевыми занавесками во все окно, с жирным фикусом, царственно возвышающимся в переднем углу. Взглядом задержалась на ярко-красном платье с белым ремешком, небрежно брошенном на стул возле комода, на котором сверкали новехонькие, еще ни разу не гретые самовары.
– А та где, кобыла?
– Ушла. Девка – известно.
– Вот как, вот как у нас! Сам весь день на вылежке, дочи дома не оследится, а мати хоть убейся. Одной мне надо…
Пелагея наконец скинула сапоги и повалилась на пол. Без всякой подстилки. Прямо на голый крашеный пол. Минут пять, а то и больше лежала она недвижно, с закрытыми глазами, тяжело, с присвистом дыша. Потом дыхание у нее постепенно выровнялось – крашеный пол хорошо вытягивает жар из тела, и она, повернувшись лицом к мужу, стала спрашивать его о домашних делах.
Самая главная и самая тяжелая работа по дому была сделана – Алька и корову подоила, и травы на утро принесла. Еще ей радость доставил самоварчик, который, поджидая ее, согрел Павел, – не все, оказывается, давил койку человек, справил свое дело и сегодня.
Она встала, выпила подряд пять чашек крепкого чаю без сахара – пустым-то чаем скорее зальешь жар внутри, потом приподняла занавеску на окне и опять посмотрела в огород. Лежит сено, целый день лежит, а ей уж не прибрать сегодня – отпали руки и ноги…
– Нет, не могу, – сказала она и снова повалилась на пол, на этот раз на ватник, услужливо разостланный мужем. – За вином-то сходил – нет? – спросила она немного погодя.
– Сходил. Взял две бутылки.
– Ну, то ладно, ладно, мужик, – уже другим голосом заговорила Пелагея. – Надо вино-то. Может, кто зайдет сегодня. Много ноне вина-то закупают?
– Закупают. Не все еще уехали к дальним сенам. Петр Иванович много брал. И белого и красного.
– Как уж не много, – вздохнула Пелагея. – Большие гости будут. Антонида, говорят, приехала, ученье кончила. Не видал?
– Нет.
– Приехала – поминал даве начальник орса. Из района, говорит, на катере вместе с военным ехала, с офицером, – вроде как на природу поинтересоваться захотела. А какая природа? Жениха ловит, взамуж выскочить поскорее хочет. – Пелагея помолчала. – А тебе уж ничего не говорил? Не звал на чашку чая?
Павел пожал плечами.
– Вишь вот, вишь вот, как время-то бежит. Бывало, какое угощенье у Петра Ивановича обходилось без нас? А теперь Павел да Пелагея не в силе – не нужны.
– Ладно, – сказал Павел, – у нас у сестры праздник. Была даже – звала.
– Нет уж, не гостья я ноне, – строго поджала губы Пелагея. – Рук-ног не чую – какие мне гости?
– Да ведь обида ей будет. День ангела у человека… – несмело напомнил Павел.
– А уж как знает. Не подыхать же мне из-за ешного ангела.
Как раз в эту минуту на крыльце зашаркали шаги, и – легка же на помине! в избу вошла Анисья.
Анисья была на пять лет старше своего брата, но здоровьем крепкая, чернобровая, зубы белые, как репа, и все целехоньки – не скажешь, что ей за пятьдесят.
Замуж Анисья выходила три раза. Первого мужа, от которого у нее был ребенок, умерший еще до года, убили на войне. Со вторым мужем ей пришлось расстаться в сорок шестом году, когда она попала в заключение (сноп жита унесла с поля). А третий муж – из вербованных, приехавший на лесозаготовки с Рязанщины (она его больше всех любила) – пропил у нее все до нитки, избил на прощанье и укатил к законной жене. После этого она уж больше семейного счастья не пытала. Жила вольно, мужиков от себя не отпихивала – но и близко к сердцу не подпускала.
Брата своего Анисья не то что любила – обожала: и за то, что он был у нее единственный, да к тому же хворый, и за то, что по доброте да по тихости своей никогда, ни разу не попрекнул ее за беспутную жизнь. Ну, а перед невесткой, женой Павла, – тут прямо надо говорить – просто робела. Робела и терялась, так как во всем признавала ее превосходство. Домовита – у самой Анисьи никогда не держалась копейка в руках, – жизнь загадывает вперед и в женском деле – камень.
Провожая мужа на войну – а было ей тогда девятнадцать лет, – Пелагея сказала: "На меня надейся. Никому не расчесывать моих волос, кроме тебя". И как сказала, так и сделала: за всю войну ни разу не переступила порог клуба.
И, сознавая превосходство невестки, Анисья всякий раз, когда разговаривала с нею, напускала на себя развязность, чтобы хоть на словах стать вровень. Так и сейчас.
– Чего лежишь? – сказала Анисья. – Вставай! Вино прокиснет.
– Все ты со своим вином. Не напилась.
– Да ведь как. В такой день насухо! – Анисья кивнула брату. – Давай, давай – подымай жену. И сам одевайся.
Павел потупился. Анисья по-свойски взялась за его брюки, висевшие на спинке кровати.
– Не тронь ты его, бога ради! – раздраженно закричала Пелагея. – Человек не в здоровье – не видишь?
– Ну тогда хоть ты пойдем.
– И я не пойду. Лежу как убитая. Еле ноги из заречья приволокла. Меня хоть золотом осыпь – не подняться. Нет, нет, спасибо, Онисья Захаровна. Спасибо на почести. Не до гостей нам сегодня.
Анисья растерялась. По круглому румяному лицу ее пошли белые пятна.
– Да что вы, господи! Самая близкая родня… Что мне люди-то скажут…
– А пущай это хоть, то и говорят, – ответила Пелагея. – Умный человек не осудит, а на глупого я век не рассчитываю. – Затем она вдруг посмотрела на Анисью своими сухими строгими глазами, приподнялась на руке. – Ты когда встала-то нынче? А я встала, печь затопила, траву в огороде выкосила, корову подоила, а пошла за реку – ты еще кверху задницей, дым из трубы не лезет. Вот у тебя на щеках и зарево.
– Да разве я виновата?
– А я на пекарню-то пришла, – продолжала выговаривать Пелагея, – да другую печь затопила – одно полено в сажень длины, – да воды тридцать ведер подняла, да черного хлеба сто буханок палила, да еще семьдесят белого. А уж как я у печи-то стояла да жарилась, про то я не говорю. А ты на луг-то спустилась, грабелками поиграла – слышала я, как вы робили, за рекой от ваших песен стекла дрожали – да не успела пот согнать – машинка: фыр-фыр. Домой поехали… – Пелагея перевела дух, снова откинулась на фуфайку, закрыла глаза.
Павел, избегая глядеть на сестру, примирительно сказал:
– Тяжело. Известно дело – пекарня. Бывал. Знаю.
– Дак уж не придете? – дрогнувшим голосом спросила Анисья. – Может, я не так приглашаю? – И вдруг она старинным, поясным поклоном поклонилась брату: – Брателко, Павел Захарович, сделай одолженье… Пелагея Прокопьевна…
Пелагея замахала руками:
– Нет, нет, Онисья Захаровна! Премного благодарны. И сами никого не звали, и к другим не пойдем. Не можем. Лежачие.
Больше Анисья не упрашивала. Тихо, с опущенной головой вышла из избы.
– Про людей вспомнила! – хмыкнула Пелагея, когда под окошком затихли шаги. – "Что люди скажут?" А то, что она за каждые штаны имается, про то не скажут?
– Что уж, известно, – сказал Павел. – Не везет ей. А надо бы маленько-то уважить. Сестра…
– Не защищай! Сама виновата. По заслугам и почет…
Павел на это ничего не ответил. Лег на кровать и мокрыми глазами уставился в потолок.
Таких домов, как дом Амосовых, теперь уж не строят.
Да и раньше, до войны, не много было в деревне.
Великан дом. Двухэтажный шестистенок с грудастым коньком на крыше, большой двор с поветью и сенником и сверх того еще боковая изба-зимница.
Вот с этой-то боковой избы-зимницы и начали разламывать дом – ее в сорок шестом году отхватила старшая сноха (у Захара Амосова четыре было сына, и только один из них, Павел, вернулся с войны). Затем потребовала своей доли вторая сноха – раскатали двор. И, наконец, последний удар нанесла Пелагея, решившая заново строиться на задах. По ее настоянию шестистенок разрубили пополам, и старого дома-красавца не стало…
Безобразная хоромина, напоминающая громадный бревенчатый аналой, стоит на его месте. В непогодь скрипит, качается, несмотря на то, что с двух сторон подперта слегами, а зимой еще хуже: суметы снега набивает в сени, кое-как прикрытые сзади старыми тесницами, и Анисья всю зиму держит в избе деревянную лопату.
И все-таки что там ни говори, а весело на Анисьиной верхотуре (нижняя изба, доставшаяся третьей снохе, заколочена), и Алька любила бывать у тетки.
Высоко. Вольготно. Ласточки у самого окошка шныряют. И все видно. Видно, кто идет-едет по деревенской улице, по подгорью, видно, как весной, в половодье, большие белопалубные пароходы выплывают из-за мыса.
А кроме того, у тетки всегда люди – не то что у них на задворках. Бабы тащатся из лавки – кому похвастаться покупкой? Тетке. Рабочие на выходной пришли из заречья – где посидеть за бутылкой? У тетки. Все к тетке – и проезжая шоферня, и свой брат колхозник-пьяница, и даже военные без году неделя как понаехали, а к тетке дорожку уж протоптали.
В этот праздничный вечер Альку так и кидало из избы на улицу, с улицы в избу. Хотелось везде ухватить кусок радости – и у тетки, и на улице, где уже начали появляться первые пьяные.
– Ты ведь уже не маленькая сломя-то голову летать, – заметила ей Анисья, когда та – в который уже раз за вечер! – вбежала в избу.
– А, ладно! – Алька вприпрыжку, козой перемахнула избу, вонзилась в раскрытое настежь окошко. Самое любимое это у нее занятие – оседлать подоконник да глазеть по сторонам.
Вдруг Алька резко подалась вперед, вся вытянулась.
– Тетка, тетка, эвон-то!
– Чего еще высмотрела?
– Да иди ты, иди скорей! – Алька захохотала, заерзала на табуретке.
Анисья, наставлявшая самовар у печи, за занавеской, подошла к ней сзади, вытянула шею.
– А, вон там кто, – сказала она. – Подружки.
Подружками в деревне называли Маню-большую и Маню-маленькую. Две старухи бобылки. Одна медведица, под потолок, – это Маня-маленькая. А другая-ветошная, рвань-старушонка, да, как говорится, себе на уме.
Потому и прозвище – большая. К примеру, пенсия. Дождется Маня-большая этого праздника – сперва закупит чаю, сахару, крупы, буханок десять хлеба, а потом уж пропивает что останется. А Маня-маленькая не так. Маня-маленькая, как зубоскалили в деревне, жила одну неделю в месяц – первую неделю после получки пенсии. Тут уж она развертывалась: и день, и ночь шлепала в своих кирзовых сапожищах по улице, да с песнями, от которых стекла лопались в рамах. А потом Мани-маленькой не видно и не слышно было три недели. Холодная печь, три кота голодных вокруг да уголь на брусе, которым она отмечала на потолке оставшиеся до получки дни.
Подружки стояли посреди пыльной улицы, по которой только что прогнали колхозное стадо. Маня-маленькая невозмутимо, в своем всегдашнем синем платке, повязанном спереди наподобие двускатной крыши, а Маня-большая, задрав кверху голову и слегка покачиваясь, что-то втолковывала ей, для убедительности размахивая темным пальцем у нее под носом.
– Чего-то вот тоже маракуют меж собой, – усмехнулась Алька.
– Люди ведь, – сказала Анисья.
– Манька-то маленькая вроде не в духе. Горло, наверно, сухое.
– С чего быть не сухому-то. У ей самая трезвость сичас. Это та хитрюга с толку сбивает. Вишь ведь, пальцем-то водит. Наверно, траву подговаривает продать.
– Какую? – Алька живо обернулась к тетке. – Это в огороде-то котора? Надо бы маме сказать. Сейчас за винище-то она дешево отдаст.
– Ладно, давай – чего старуху обижать. Не сейчас надо торговать.
– Тетка, – сказала немного погодя Алька, – я позову их?
– Да зачем? Мало они сюда бродят?
– Да ведь забавно! Со смеху помрешь, когда они начнут высказываться.
Анисья не сразу дала согласие. Не для них, не для этих гостей готовилась она сегодня – в душе она все еще надеялась, что невестка одумается – придет, а с другой стороны, как отказать и Альке? Пристала, обвила руками шею – лед крещенский растает.
Первой вспорхнула в избу Маня-большая, – легкая, в пиджачонке с чужого плеча, в мятых матерчатых штанах в белую полоску, женского – только платок белый на голове да платье поверх штанов, а Маня-маленькая в это время еще бухала своими сапожищами по крутой лестнице в сенях. В дверях согнулась пополам. Затем, перешагнув за порог, начала отвешивать поклоны в красный угол.
– Давай не в монастырь пришла, – съязвила Маня-большая, намекая на давнишнее прошлое своей товарки, когда та стирала на монахов.
– А что? – пробасила Маня-маленькая. – И не в сарай.
– Дура слепая! В углу-то у ей Ленин.
Алька захохотала.
– Ничего, – все так же невозмутимо ответила Маня-маленькая. – Власти от бога.
– Верно, верно, Егоровна, – сказала из-за занавески Анисья. – Пензию-то вам не бог платит. Проходите к столу.
– А стол-то у тебя не шатается, Ониса? Нет? – спросила с галюком Маня-большая.
– У тебя в глазах шатается, – усмехнулась Алька.
Тут с улицы донеслось чиханье и фырканье мотоцикла, и она быстрехонько вскочила на табуретку у окна. При этом шелковое, в красную полоску платье сильно натянулось сзади, и белая ядреная нога открылась поверх чулка.
– Алька, – полюбопытствовала Маня-большая, – какакое у тебя там приспособленье? Под самый зад чулок заправляешь.
– Пояс. Неуж не видала? – Алька удивленно выгнула круглую бровь – бровями она была в тетку, – спрыгнула с табуретки, приподняла подол платья.
– Ловко! – одобрительно цокнула языком Маня-большая.
– Како тако поесье под платьем? – Маня-маленькая, близоруко щуря и без того узкие монгольские глаза, вытянула шею. – Нуто те – трусики.
– Трусики! Печь бестолковый! Вот где у меня трусики-то. Смотри! – И Алька со смехом оттянула тугой розовый пояс.
– Тоже кабыть шелковые, – пробурчала Маня-маленькая.
– Я вся шелковая, – хвастливо объявила Алька и, придерживая руками подол платья, игриво повернулась на высоких каблуках.
– Алька, Алька, бесстыдница! – крикнула из-за занавески Анисья, – Разве так баско?
– А чего не баско-то? Не съедим.
– Нельзя так. Она еще ученица, – сказала Анисья и строго посмотрела на Маню-большую.
– Ученица! Нынешняя ученица – знаем: рукой по парте водит, а ногой парня ищет. Алька! Кого я вчерась видела – огороду с солдатом подпирает?
Алька нахмурилась:
– Ври, вралья! Буду я с солдатом. Я с солдатом-то близко никогда не стаивала.
– Ну, тогда с золотыми полосками. Так?
Против этого Алька возражать не стала.
– Вишь ведь, вишь ведь, – опять зацокала языком Маня-большая, – кровь в ей ходит! А колобашки-то! Колобашки-то! Колом не прошибешь!
– Хватит, хватит, Архиповна. Я отродясь таких речей не люблю.
– И я не люблю, – подала свой голос Маня-маленькая. – У ей все срам на языке. Я тоже девушка.
Тут Алька от смеха повалилась грудью на стол. А у Мани-большой так и запылал левый глаз зеленым угарным огнем – верная примета, что где-то уже подзаправилась.
И поэтому Анисья, не дожидаясь самовара, вынесла закуску – звено докрасна зажаренной трески, поставила на стол четвертинку – поскорее бы только выпроводить такую гостью,
– Пейте, кушайте, гости дорогие.
– Тетка сегодня именинница, – сказала Алька, вытирая слезы.
– Разве? – У Мани-большой от удивления оттянулась нижняя губа. – А чего это брата с невесткой нету?
– Не могут, – ответила Анисья. – Прокопьевна на пекарне ухлопалась – ни ногой, ни рукой пошевелить не может. А сам известно какой – к кровати прирос.
Маня-большая ухмыльнулась.
– Матреха, – закричала она на ухо своей глуховатой подружке, – мы кого сичас видели?
– Где?
– У Прошичей на задворках.
– О-о! Нуто те – Павел Захарович с женой. В гости направились. У Павла сапоги свиркают – при мне о третьем годе покупал, и сама на каблучках, по-городскому… Богатые…
Больше полугода готовилась Анисья к этому празднику. Все, какие деньги заводились за это время, складывала под замок. Сама, можно сказать, на одном чаю сидела. А стол справила – пальцев не хватит на руках все перемены сосчитать.
Три рыбы: щука свежая, речная, хариусы – по фунту каждый, семга; три каши, три киселя; да мясо жирное, да мясо постное – нельзя Павлу жирного есть; да консервы тройные.
И вот сердце загорелось – все выставила. Нате, лопайте! Пускай самые распоследние гости стравят, раз свои побрезговали. Правда, звено красной – три дня мытарила за него на огороде у Игнашки-денежки – она сперва не вынесла. А потом, когда опоясала с горя второй стакан, и семгу бросила на потраву…
Не стесняясь чужих людей, она безутешно плакала, как малый ребенок, потом вскакивала, начинала лихо отплясывать под разнобойное прихлопыванье старушечьих рук, потом опять хваталась за вино и еще пуще рыдала…
Маня-большая, как кавалер, лапала раскрасневшуюся Альку. Та со смехом отпихивала ее от себя, била по рукам и под конец пересела к Мане-маленькой, которая низким, утробным голосом выводила свою любимую "Как в саду при долине…".
Вдруг Анисье показалось – в руках у Альки рюмка.
– Алька, Алька, не смей!
– Тетка, мы траву спрыскиваем. Я траву у Мани-маленькой торгую.
– Траву? – удивилась Анисья. И махнула рукой: а, лешак с вами! Мне-то что.
– Да я не обманываю, Онисья, – с обидой в голосе заговорила Маня-маленькая. – Когда я обманывала? У меня трава-то чистый шелк.
Алька начала трясти ее темную пудовую руку. К ним потянулась Маня-большая.
– Ну-ко, я колону. Может, и мне маленько отколется. Отколется, Матреха?
– Куда от тебя денешься? Выманишь…
Маня-большая, довольная, подмигивая, закурила, а Маня-маленькая опять зарокотала:
– Травка-то у меня хорошая, девка. Надо бы до осени подождать. В травке-то у меня котанушки любят гулять…
– Да твоим котанушкам по выкошенному-то огороду еще лучше гулять, – сказала Алька.
– Нет, не лучше. Травки-то им надо. Они из травки-то птичек выглядывают…
Маня-маленькая тяжко покачала головой и, обливаясь горючими слезами, затрубила на всю избу:
На мою на могилку,
Знать, никто не придет.
Только раннею весною
Соловей пропоет…
Ее стала утешать Маня-большая:
– Давай дак не стони. Расстоналась… Вон к Ониске и брат родной не зашел… В рожденье…
– Не трожь моего брата! – Тут к Анисье сразу вернулись трезвость. Она изо всей силы стукнула кулаком по столу, так, что посуда зазвенела. – Знаю тебя. Хочешь клин меж нас вбить. Не бывать этому!
– Алевтинка! Чего это она! Какая вожжа под хвост попала?
– А ну вас! – рассердилась Алька. – Натрескались. Одна белугой воет, другая чашки бьет.
Окончательно пришла в себя Анисья несколько позже, когда в избу вломились празднично разодетые девки в сопровождении трех военных.
Тот, у которого на плечах были золотые полоски, быстрыми блестящими глазами обежал избу, воскликнул, подмигивая Мане-большой (за хозяйку принял):
– Гуляем, тетушки?
– Маленько, товарищ… Старухи пенсионерки… – Маня-большая икнула для солидности. – Советская власть… Крепи оборону… Правильно говорю, товарищ?
– Уполне, – в тон ей ответил офицер, затем стал со всеми здороваться за руку.
– По-нашему, товарищ, – одобрила его Маня-большая и, повернувшись к Анисье, круто распорядилась: – А ты чего глаза вылупила? Не знаешь, как гостей принимают?
Место им досталось неважное – с краю, у комода, и не на стульях с мягкой спиночкой, а на доске-скрипучей полатнице, положенной на две табуретки.
Но Пелагея и этому месту была рада. Это раньше, лет десять-двенадцать назад, она бы сказала: нет, нет, Петр Иванович! Не задвигай меня на задворки. На задворках-то я и дома у себя насижусь. А я хочу к оконышку поближе, к свету, чтобы ручьем в оба уха умные речи текли. Да лет десять-двенадцать назад и напоминать бы не пришлось хозяину – сам стал бы упрашивать. А она бы еще так и покуражилась маленько.
Но ведь то десять-двенадцать лет назад! Павел тогда бригадир, самой ей в рот каждый смотрит – не перепадет ли буханка лишняя. А теперь незачем смотреть, теперь в магазинах хлеб не выводится. А ведь какова цена хлебу – такова и пекарихе. На что же тут обижаться?
Спасибо и на том, что вспомнил их Петр Иванович.
Когда от Петра Ивановича прибежал мальчик с записочкой, они с Павлом уже ложились спать. Но записочка ("Ждем дорогих гостей") сразу все изменила.
Петр Иванович худых гостей не позовет, не такой он человек, чтобы всякого вином поить. Перво-наперво будут головки: председатель сельсовета да председатель колхоза, потом будет председатель сельпо с бухгалтером, потом начальник лесопункта – этот на особицу, сын Петра Ивановича у него служит.
Потом пойдет народ помельче: пилорама, машина грузовая, Антоха-кошох, но и без них, без шаромыг, шагу не ступишь. Надо, скажем, дом перекрыть – походишь, покланяешься Аркашке-пилорамщику. А конюха взять. Кажись, теперь, в машинное время, и человека бесполезнее его нету. А нет, шофер шофером, а конюх конюхом. Придет зима да прижмет с дровами, с сеном – не Антохой, Антоном Павловичем назовешь.
Антониду с Сергеем, детей Петра Ивановича, они за столом уже не застали: люди молодые – чего им томиться в праздник в духоте?
1 2 3 4 5 6 >>>далее
| 